Наталья Шулепина пишет на своём сайте:
![Близ «Мастера» Близ «Мастера»]() Августа Вулиса, когда-то работавшего в «Правде Востока», я знала не газетчиком, а профессором. Запомнила его веселым и жизнерадостным, несмотря на то, что приходил в гости к нам в редакцию с … кашей. Вероятно, из-за проблем с желудком он нуждался в частых перекусах. По этому поводу он шутил, и ел свою кашу в нужный момент. Приходил он, как и многие другие выдающиеся посетители, к заведующему промышленно-экономическим отделом УзТАГ Юрию Кружилину.
Августа Вулиса, когда-то работавшего в «Правде Востока», я знала не газетчиком, а профессором. Запомнила его веселым и жизнерадостным, несмотря на то, что приходил в гости к нам в редакцию с … кашей. Вероятно, из-за проблем с желудком он нуждался в частых перекусах. По этому поводу он шутил, и ел свою кашу в нужный момент. Приходил он, как и многие другие выдающиеся посетители, к заведующему промышленно-экономическим отделом УзТАГ Юрию Кружилину.
![Близ «Мастера» Близ «Мастера»]() Знакомы они были еще с пятидесятых годов, когда студент филфака ТашГУ Кружилин стал публиковать в «Правде Востока» свои первые заметки, а потом и работать. Тогда Вулис возглавлял в газете отдел культуры. Но в журналистике расстояния между мэтром и студентом не очень велики. В общем, они подружились. Тепло этой дружбы через десятилетия, в восьмидесятые, доставалось и нам, молодым журналистам промотдела Узбекского информационного агентства.
Знакомы они были еще с пятидесятых годов, когда студент филфака ТашГУ Кружилин стал публиковать в «Правде Востока» свои первые заметки, а потом и работать. Тогда Вулис возглавлял в газете отдел культуры. Но в журналистике расстояния между мэтром и студентом не очень велики. В общем, они подружились. Тепло этой дружбы через десятилетия, в восьмидесятые, доставалось и нам, молодым журналистам промотдела Узбекского информационного агентства.
До поры до времени мы не знали о роли Августа Вулиса в публикации «Мастера и Маргариты» Булгакова. Ну, жизнелюб, ну, профессор. Живет на два города - Москву и Ташкент. Здесь, в Ташкенте, читает лекции в университете. Когда надвигается его лекционный курс, тогда и появляется в УзТАГе, элегантный, обаятельный и смешливый. Это так, общая информация.
![Близ «Мастера» Близ «Мастера»]() Но потом-то из любопытства к неординарной личности мы порасспросили Кружилина про Вулиса. История о том, что Вулис встречался с Еленой Сергеевной Булгаковой и причастен к публикации романа Михаила Афанасьевича Булгакова, казалась невероятной. Он читал друзьям страницы из «Мастера и Маргариты» на крыше гостиницы «Ташкент». То, что они слышали… Сейчас мне трудно подобрать слова для передачи той атмосферы на крыше. Я при прочтении на крыше «Ташкента» не присутствовала. Но не забыт восторг, с которым Юрий Григорьевич Кружилин вспоминал эти чтения. Это открытие тайны, это сокровище, к которому им вдруг удалось приблизиться!
Но потом-то из любопытства к неординарной личности мы порасспросили Кружилина про Вулиса. История о том, что Вулис встречался с Еленой Сергеевной Булгаковой и причастен к публикации романа Михаила Афанасьевича Булгакова, казалась невероятной. Он читал друзьям страницы из «Мастера и Маргариты» на крыше гостиницы «Ташкент». То, что они слышали… Сейчас мне трудно подобрать слова для передачи той атмосферы на крыше. Я при прочтении на крыше «Ташкента» не присутствовала. Но не забыт восторг, с которым Юрий Григорьевич Кружилин вспоминал эти чтения. Это открытие тайны, это сокровище, к которому им вдруг удалось приблизиться!
Наконец роман опубликован. Все читали его в журнале «Москва» в шестидесятые, а потом и в отдельном издании. В восьмидесятые годы нам эпопея c публикацией виделась фантастической, а сам профессор Вулис представлялся отчасти частью романа, может быть, одним из невидимых его героев, прописанных между строк.
Когда УзТАГ переехал в новое здание у Сквера (сейчас на этом месте воздвигнут Дворец Форумов), Вулис на какое-то время исчез, видимо, курс лекций отчитал и уехал в Москву. Отправляюсь как-то на задание - так это у нас называлось, когда шли "копать" материал для очередной заметки – встречаю неподалеку счастливого Вулиса. Не преувеличиваю. Он это счастье излучал. «Наташа, вы меня проведете к Юре?» - «Конечно». В конце восьмидесятых годов не было нынешних страхов и высоких заборов. Вход в Узбекское информационное агентство – УзТАГ – беспрепятственный. В вестибюле сидел дежурный, которому достаточно объяснить, к кому идешь, и вперед, иди в нужный отдел. Но как не проводить Вулиса?! Провожая, получила свою порцию счастья, и помчалась "копать".
Было весело, когда Вулису отмечали день рождения. Жил он с семьей в Москве, а его день рождения выпал на время пребывания в Ташкенте. Кажется, заканчивался август или начинался сентябрь. Отмечать собираются у Кружилина, окна квартиры которого аккурат смотрят в окна нового УзТАГа. Я тоже получаю приглашение, но отказываюсь: сестра уезжает в далекие края, и у нее тоже сбор. Однако в десятом часу вечера звоню Кружилину из телефонного автомата: «Я рядом. Вы еще празднуете?» - «Ждем». Перехожу через дорогу, поднимаюсь на второй этаж. Не все разошлись. Общие друзья – Анатолий Кудинов с женой, Александр Файнберг, отец Григорий Виссарионович, все прилично одетые. Один Вулис гуляет по квартире в шортах. Мне так все равно, кто во что одет, тем более, в день рождения профессора. Но он мило извиняется: «Я же не знал, что вы придете». Честно говоря, не помню, в чем он уходил. В шортах ходить по улицам Ташкента было не принято. Вулису можно.
Годы работы Августа Вулиса в «Правде Востока» точно не укажу. Поспрашивала коллег старшего поколения, говорят, что надо в памяти порыться. Вроде бы пятидесятые – начало шестидесятых. В начале шестидесятых он жил в Ташкенте и работал над диссертацией. Отправился в Москву в командировку. Ну, а как он познакомился с Еленой Сергеевной Булгаковой, как прочел роман и как пробивал его в печать, лучше всего узнать из первых рук. Об этом Август Вулис рассказал в одной из глав своей книги «Вакансии в моем альбоме».
Книга опубликована в 1989 году в Ташкенте, сейчас - библиографическая редкость. Галина Александровна Костикова (Чебакова), журналист с большим стажем, немало сделавшая для развития журналистики в Узбекистане, лично знавшая и Вулиса, и Кружилина, и Файнберга, многих-многих других замечательных представителей эпохи, предложила вспомнить через полвека выхода в свет романа «Мастер и Маргарита», как это случилось. Она сняла с полки книгу Вулиса «Вакансии в моем альбоме» и отправилась с ней в редакцию газеты «Правда Востока». Здесь главу «перевели» в электронный формат, и теперь у читателей есть шанс приобщиться к истории публикации.
Более четверти века роман ждал своего часа. Кто знает, сколько еще лет мир мог его не знать, если бы однажды не набрал номер телефона Елены Сергеевны Булгаковой ташкентский журналист и литературовед Август Вулис.
Наталия ШУЛЕПИНА
![Близ «Мастера» Близ «Мастера»]() Итак, читаем главу из книги Вулиса «Вакансии в моем альбоме».
Итак, читаем главу из книги Вулиса «Вакансии в моем альбоме».
* * *
БЛИЗ «МАСТЕРА»
В десятых числах мая 1962 года Институт литературы Академии наук Узбекистана предоставил мне месячную командировку для работы в библиотеках и архивах Москвы. «Если понадобится, - сказали, правда, мне, - сиди там хоть три месяца, только предупреди нас телеграммой». Сколько мне понадобится времени на сбор материала, я не знал, но догадывался, что месяцем, пожалуй, не обойдусь. Очень уж загадочно - для всех и для меня самого - звучала тема: «Советский сатирический роман».
А в Москве пошла работа. Третий научный зал библиотеки имени Ленина с десяти утра до десяти вечера. Основному чтению - сатирических романов - предшествует затяжной период чтения предварительного, рекогносцировочного. Дело, на первый взгляд, скучное, но, с такой точки зрения, скучно и занятие Джима Хокинса, изучающего карту острова сокровищ. Я читаю многостраничные библиографические справочники, как сумасшедший из распространенного анекдота читает телефонную книгу.
Этим стивенсоновским (или даже конандойлевским) поискам сопутствует ознакомление (или углубление уже сложившегося знакомства) с общепризнанной сатирой. С особым интересом оформляю заказ на «Роковые яйца» М. Булгакова.
Всякого рода мемуаристы упоминают «Роковые яйца» и ее автора с многозначительными умолчаниями. «Роковые яйца» производят на меня сильное впечатление. И необычное. «Роковым яйцам» присуще важное достоинство - на них лежит, что называется, неизгладимая печать таланта. Некоторые страницы написаны с пластической силой классики. Прочитав «Роковые яйца», нельзя не задаться вопросом: а что еще сделал Булгаков на сатирическом поприще? Каталоги на этот вопрос в начале шестидесятых годов почти ничего не отвечают. Библиографические указатели тоже молчат. Но — бывают же совпадения — как раз к началу шестидесятых годов относится первое упоминание «Мастера и Маргариты» печатью: об этом романе говорит В.Каверин, напутствуя булгаковского «Мольера» в серии «Жизнь замечательных людей».
«Мастер и Маргарита»! Как звучит! И, конечно же, я спрашиваю свою добрую знакомую, которая редактировала в то время собрание сочинений В.Каверина: где хранится рукопись «Мастера». Знакомая берет у меня отсрочку на ответ. А день-другой спустя называет не только Елену Сергеевну Булгакову — вдову писателя, но и номер ее телефона.
К столичным телефонам у меня отношение двойственное. Недавний газетчик, я высоко ценю сей способ общения между деловыми людьми. Это — с одной стороны. С другой стороны, провинциал оказывается вдвойне провинциалом, когда он, на расстоянии втолковывает незнакомому, человеку, что хочет записаться к нему в знакомые. Не очень твердой рукой я набираю номер, и когда там, на другом конце Москвы, снимают трубку и отвечают очень-очень, как мне тогда представляется, светским голосом — голосом дамы со шлейфом, — я едва заставляю себя произнести нужное: будьте любезны, пригласите, пожалуйста, к телефону Елену Сергеевну.
— Елена Сергеевна вас слушает.
Я бормочу заранее сочиненный монолог, что-то очень бравурное и вместе с тем робкое. За подробности не ручаюсь, но суть воспроизведу точно, ну, разве что чуть-чуть шаржированно.
— Добрый день, Елена Сергеевна. С вами говорит такой-то. Беспокою вас по очень серьезному для меня поводу. Или, вернее, даже не поводу, а делу. Я - ташкентский литературовед. Сейчас нахожусь в командировке, собираю материал для монографии. О советском сатирическом романе. Эта тема мне давно близка: я - автор книги об Ильфе и Петрове, выпущенной два года назад Гослитиздатом. Только что познакомился с повестью Булгакова «Роковые яйца». Судя по этому произведению, Булгаков тоже — как и авторы «Золотого теленка» — талантливый писатель, хотя, понимаю, моя оценка может показаться вам преувеличенной. И вот мне сдается, что после Булгакова должны были остаться интересные рукописи. Если это так, я постараюсь выкроить время, чтобы с ними познакомиться. Надеюсь, вы, Елена Сергеевна, пойдете мне навстречу и оцените мою решимость совершить для неопубликованного Булгакова все возможное. Например, принять участие в подготовке его сочинений к печати.
Последовавший за этим монологом диалог принял совершенно неожиданный для меня оборот.
— Скажите, пожалуйста, вы состоите в Союзе писателей?
— Состою. Два года назад принят, — ответствую с гордостью.
— Значит, вы состоите членом Союза... Может быть, вы один из тех, кто ровно ничего не делает, чтоб воздать должное памяти великого русского писателя Булгакова. Не печатает сочинения Михаила Афанасьевича... — И так далее, и тому подобное.
Я, разумеется, не знал, как кто относится к памяти и имени Михаила Афанасьевича. Я вообще ничего не знал и ни о чем не думал, кроме как о перспективе найти неопубликованный роман Булгакова. Легко представить, как поразили меня слова Елены Сергеевны. Я лепетал некие извинения. Но было ясно: нет, не примет меня вдова писателя Булгакова — как Михаила Афанасьевича я его не воспринимал и еще долго вздрагивал от неожиданности и недоумения, когда при мне произносили это имя-отчество.
— Позвоните через несколько дней, — очень неохотно согласилась Елена Сергеевна. — Но ничего определенного я вам не обещаю. Никаких рукописей у меня для вас нет. Сатирических романов после Михаила Афанасьевича не осталось. «Мастер и Маргарита» — это философский роман.
— Но ведь каждый философский роман — сатирический...
— Не знаю, не знаю... Позвоните через два-три дня.
Этот разговор обескуражил меня — насколько вообще телефонные отповеди могут обескураживать самоуверенных провинциалов. То есть денек-другой я поеживался при мысли об Елене Сергеевне, о том, как буду краснеть и елозить под ее пронизывающим заочным взором. А потом взял да позвонил опять. Новый разговор по сути своей ничем не отличался от прошлого — ничем, кроме развязки, которая могла бы сойти за хэппи-энд, кабы не была пока еще только неопределенным началом. Меня согласились принять, и через какое-то время, думаю, еще через день-два — Елена Сергеевна не терпела опрометчивости в булгаковских делах — я стоял на лестничной площадке второго этажа в доме на Суворовском бульваре у Никитских ворот.
Подъезд был темноватый, с кухонными запахами, но по мне, будь он даже выстлан коврами персидской работы, это нисколько не прибавило бы обстановке торжественности: Елена Сергеевна встречала меня в прихожей с великодушием и достоинством королевы какого-то фантастического мира.
Последующие впечатления этого дня не складываются в сквозной сюжет. Пятна света чередуются с тенью. Однако общая, усредненная атмосфера сохранилась в памяти отчетливо. Я сдавал экзамен. С того самого первого момента, когда переступил порог квартиры и, верно, еще целый месяц или полтора — до самого отъезда из Москвы.
— Рассказывайте! — повелительно изрекла Елена Сергеевна, едва мы оказались с ней лицом друг к другу в комнате. «Рассказывайте» Елены Сергеевны носит ритуальный, я бы даже сказал, религиозный характер: священнослужитель призывает нераскаявшегося грешника исповедоваться. Пробный камень исповеди, ее главный и единственный мотив (при всем многообразии тем, затрагиваемых собеседниками) — Михаил Булгаков. Как вы относитесь к автору «Дней Турбиных»? Помните ли знаменитый спектакль МХАТа? А «Роковые яйца»? Вопросы задаются завуалированно, они могут выглядеть и как ответы, и как советы, и как воспоминания, однако во всех этих стилистических редакциях остаются по сути своей вопросами, целой системой ловушек, экспериментов, испытательных ситуаций. Интервью — только малая составная часть общения, хотя невидимыми импульсами вторгается в каждую часть разговора. Вам протянута приветственная рука, и вы ее пожимаете. Будьте уверены, что вы только сейчас провалили испытание на галантность, и позже, если представится подходящая минута, Елена Сергеевна, смеясь, изобразит вашу солдафонскую манеру здороваться.
В назначенный час Елена Сергеевна ведет гостя на кухню, и круглый столик (мне он всегда представлялся мраморным) в мгновенье ока оказывается сервированным. Широкое московское хлебосольство! Но и за ним, как за каждой фразой Елены Сергеевны, ощутима некая главная идея. Это по-прежнему он, Булгаков. Как он воспринял бы и принял этого человека?«Бы», «бы», «бы» — искажение истинной картины. Диалог с Булгаковым для Елены Сергеевны — не фантастическая гипотеза и не игра на зрителя, которой сам актер не верит нисколько. Булгаков для нее — живая сегодняшняя реальность. По-видимому, мои фразы и поступки не содержат кричащих диссонансов, Елена Сергеевна продолжает разговор. С другой стороны, эти фразы и поступки не свидетельствуют о моей специальной изощренности в булгаковедении, и Елена Сергеевна держится на просветительской ноте. Несколько раз упоминает мхатовскую постановку «Турбиных». Сообщает, что в Ленинграде поставлен «Бег». Связывает (для меня!) «Турбиных» с «Белой гвардией».
Да, откликнуться на ее «рассказывайте» мне по существу нечем: знание материала у меня не лучше, чем у студента, который к экзамену выучил один-единственный билет.
— Как любителя сатиры вас должны привлечь фельетоны Михаила Афанасьевича. Читали вы их?
Через минуту я сижу за другим круглым столиком (этот кажется мне сделанным из красного дерева), поглядываю на овальный портрет иронически настроенного Булгакова, на трюмо, отражающее тот же портрет, передо мною лежит, ожидая научного внимания, толстый переплетенный томик. У меня впереди считанные недели. Чтобы использовать их рациональным образом, я должен мыслить крупными категориями, вроде повестей или романов, а здесь фельетоны, коим несть числа, и в перспективе - пыльные газетные подшивки, бесконечные, как коридор библиотеки, а в финале — отыскание одной доселе не идентифицированной булгаковской заметки. Я нехотя перелистываю фельетоны, заполняя минимальную протяженность времени, какая, на мой взгляд, отведена Еленой Сергеевной под это занятие! Освобождение наступает скоро. Вдова великого юмориста обладает прекрасным чувством юмора. Почувствовав, как я маюсь, Елена Сергеевна улыбается и отбирает у меня книгу.
Чтение — разговор. Разговор — чтение. Этот ритм моих приходов к Булгакову был задан Еленой Сергеевной с первого дня. После фельетонов мы вернулись в разговор, который весь — от первого слова Елены Сергеевны до последнего - являл для меня откровение.
На следующий день я опять пришел к Елене Сергеевне. Мы прошли к «моему» круглому столику красного дерева, на столике лежал фолиант малого формата, так же, как и недавние фельетоны, забранный в кожаный переплет.
- «Записки покойника», — сказала Елена Сергеевна.
Заглянув в титульный лист, я прочитал подзаголовок «Театральный роман» и вопросительно поднял глаза. Она рассмеялась:
- Театральный роман ведь тоже может быть сатирическим, — и совсем неожиданно сменила тон: — Вы обещали показать мне вашу книгу, не забыли? — Книгу-то я принес и, конечно же, тотчас отдал ей, но внутреннего покоя, столь нужного при первой встрече с рукописным булгаковским наследием, мгновенно лишился. Мой взгляд блуждал по строкам «Театрального романа», а мысли то и дело забредали в смежную комнату, где, погрузившись в кресло (так и хочется сказать, вольтеровское, хотя я вовсе не убежден, что оно было именно вольтеровским), Елена Сергеевна листала «меня».
Но когда Елена Сергеевна приглашает меня к себе в комнату («на суд!» — мелькает у меня в голове), о моей монографии речи нет, она как бы и не существует. Просто продолжается экспертиза: способен ли этот литературовед оценить Булгакова? Настолько ли порядочен, что ушел от соблазна сталкивать Булгакова с Ильфом и Петровым? Мимоходом лягнуть произведения, коих никогда не читал? И вообще, стоит ли пускать его (то есть меня) дальше?
Мнения моего о «Театральном романе» она не спрашивает. Мой сдавленный смешок, видимо, представляется ей красноречивой оценкой. Больше ее интересуют частности: как мне понравились такой-то эпизод, такой-то диалог, такая-то реплика, ситуация, фраза? Кого из героев с кем из действительно существовавших режиссеров и актеров я связываю? Заметно ли портретное сходство? И так далее и тому подобное. А потом вдруг очередной подвох.
— А с кого списан Бомбардов?
Если помните, Бомбардов — это актер, сопровождающий Максудова во всех перипетиях, резонерствующая тень центрального персонажа. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что Бомбардов фигура вымышленная, шутник-обозреватель, присутствующий чуть ли не в каждом сатирическом романе. Неужто Елене Сергеевне знаком реальный претендент на сию эфемерную должность?
— Бомбардов, — говорю я обреченно, — Бомбардов — это никто. Бомбардов, вроде Вергилия у Данте, поясняет своему попутчику все, что они видят, нет у него никакого прототипа. — Умолкаю. Жду отповеди, потому что на отповеди (если собеседник их заслуживает) она куда как горазда. И вдруг слышу смех.
— Подумайте! Наконец-то — трезвый человек... А они в театре до сих пор Бомбардова делят. Этот говорит: «Я Бомбардов!» А другой в ответ: «Ничего подобного, Бомбардов — это я!» Браво!
С этого момента, как мне почудилось, я завоевал доверие Елены Сергеевны. Во всяком случае, при прощании она сказала:
— Завтра будете читать «Мастера и Маргариту».
«Мастер и Маргарита» тысяча девятьсот шестьдесят второго года — это ни с кем не разделенный мир художника и его подруги, Михаила Булгакова и Елены Сергеевны. Распахивая перед посторонним, перед чужеземцем двери в эту никем не виданную страну, Елена Сергеевна испытывает праздничное чувство, род экстаза, владеющего щедрым человеком, когда он дарит.
Перед вами на том же круглом столе те же томики домашнего собрания сочинений, те же переплеты, что и для фельетонов или «Театрального романа». Но Елена Сергеевна не позволяет себе задержаться в сосед¬ней комнате или хотя бы даже в кухне. Человек, читающий «Мастера», имеет право на полное уединение. И Елена Сергеевна уходит — на полдня, на целый день, перед уходом оставляя (или даже доставляя) вам горячий кофе и изящные, вкусные бутербродики.
Устремился я в роман легкой фланерской стопой человека бывалого—и там он успел прогуляться, и здесь достопримечательности осмотрел. Эка невидаль — предзакатный зной на Патриарших прудах, раскрашенная будочка с надписью «Пиво — воды» да абрикосовая, которая дает обильную желтую пену, пахнущую парикмахерской. Сатирические повести двадцатых годов знавали и не такие картины. Но уже на второй или третьей странице, когда из знойного воздуха соткался прозрачный гражданин престранного вида, повеяло замыслом необыкновенным. Это чувство усилилось с началом спора между Берлиозом и Иваном Бездомным, окрепло с появлением Воланда и переросло в удивление на грани растерянности, когда «в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской поход¬кой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
Роман бушевал вокруг меня, надо мной, во мне, точно могущественная непонятная и непокорная стихия, вроде тех гроз, которые ходят взад-вперед по «Мастеру и Маргарите», раскалывая мир на свет и тьму, добро и зло, и я ничего не мог поделать ни с собой, ни с романом. Я намертво утратил способность анализировать... А роман жил своей особенной таинственной жизнью, не поддаваясь никакому анализу. Вынутый из времени своей неординарной творческой судьбой — без напутственных писательских правок перед выходом в свет, без редакторских пометок и придирок и без читателей-современников — роман предъявлял себя как монолитную данность. Он такой, каков он есть, и другим быть ему не дано и не нужно.
Отрывая взгляд от пожелтевших страниц, я в первый миг с трудом понимал, что за окнами Суворовский бульвар шестьдесят второго года, а не Садовая тридцатого и не Ершалаим времен Понтия Пилата. Старое трюмо у противоположной стенки волшебным образом приобретало головокружительную глубину, и мне чудилось, что вот сейчас там, обрамленные витым деревом, возникнут глумливые кот и Коровьев.
Возвращалась и опять уходила Елена Сергеевна — то ли в этот день, то ли на следующий, точно не помню, потому что «Мастер» струился единым сквозным сном. О чем-то мы с ней говорили, и, наверное, я выражал свои восторги по поводу романа, но, в чем уверен, очень осторожно, все время стараясь объяснить неизвестное известным. Произносил великие имена — Гоголя, Гофмана, Достоевского. И ничего не спрашивал, чтоб не попасть впросак. Зато всякую подробность, позволявшую взглянуть на роман изнутри, увидеть его развитие (с кого писал Булгаков вон ту фигуру, а с кого — эту, когда взялся за первую главу, а когда — за вторую), напряженно выслушивал, боясь вспугнуть Елену Сергеевну, стараясь даже не моргнуть лишний раз. Потом уж понял, что страхи мои на тему «вспугнуть — не вспугнуть» совершенно напрасны. Елена Сергеевна говорила только то, что считала необходимым сказать, и ни полслова больше, говорила ровно столько и именно тогда, как это предусматривала ее скрытая, отчасти подсознательная, отчасти продуманная программа, которая называется совестью подруги, соучастницы и сподвижницы.
Все-таки кое-что из ее лаконичных замечаний я выяснял. Что некоторые шутливые фразы Бегемота отражают мальчишеский репертуар ее сына. Что буфетчик, торговавший тухлой осетриной, существовал на самом деле, что Елена Сергеевна была во время войны эвакуирована в Ташкент и что там с «Мастером» познакомилась Ахматова. Этот первый, «пристрелочный» круг разговоров о «Мастере» завершился просьбой:
— Елена Сергеевна, можно мне сделать выписки из романа? Писать о «Мастере» я буду в Ташкенте. Сами понимаете, придется цитировать. Трудно цитировать, не имея цитат под рукой.
— Я никогда и никого не допускала к роману, — раздумчиво говорила Елена Сергеевна, противореча своим недавним рассказам об Ахматовой или Каверине. — Право же, не знаю, что вам ответить. Да, кстати, оставьте мне вашу тетрадку. Конфузясь, я выложил на кухонный столик свою тетрадку.
Конечно, я преувеличивал интерес Елены Сергеевны к моей персоне. Ее мало волновали чьи бы то ни было литературные способности. Она просматривала тетрадку под строго определенным углом зрения: есть ли там хоть намек на недружественное или даже просто критическое отношение к Булгакову. Отыщись среди записей хоть одна неосторожная, и Елена Сергеевна со мной распрощалась бы. Но тетрадка декларировала и декламировала одни только восторги — сдержанные, корректные, с оговорками, но — восторги.
Никаких специальных слов не было сказано, никакие допуски к дальнейшей работе над текстом не оформлялись. Однажды я, словно бы без спросу, украдкой, начал конспектировать роман, а Елена Сергеевна словно бы этого не замечала или, замечая, смотрела на мои занятия сквозь пальцы, как воспитанный человек смотрит на невинную бестактность невоспитанного.
Не могу сказать, что моя бестактность по отношению к «Мастеру» оставалась в тех же благопристойных границах и позже. Довольно скоро, на второй или третий день переписывания — а длилось оно неделю, — я придумал какую-то историю про своего больного дядю, который сейчас только об одном в жизни и помышлял: как бы ему прочитать «Мастера», наскоро, пускай за одну ночь. Дядя у меня на самом деле был и болел он тогда на самом деле и, наверное, «Мастера» прочитал бы с радостью. Коварство же моего плана заключалось не в фальшивости деталей, детали, напротив, были как раз подлинные, а в подмене истинной цели. На квартире у дяди в ванной комнате мои двоюродные братья, студенты, оборудовали в честь «Мастера» настоящую фотолабораторию. И стоило роману очутиться у них в Новых Черемушках, как назавтра же была бы готова копия. Она избавила бы меня от необходимости заниматься изнурительным конспектированием. Но Елена Сергеевна положила конец моим ухищрениям просто, с удивительным лаконизмом и благородством.
— Я бы дала вам рукопись, но посоветовалась с Ним, — она посмотрела на портрет. — А Он не велит.
Так я и не получил полный текст «Мастера и Маргариты» в тот раз — и, вообще, до шестьдесят шестого года не получил. И выдала мне роман «на дом» Елена Сергеевна только после того, как журнал «Москва» начал переговоры о публикации булгаковской рукописи, а мне поручил подготовку вступительной статьи.
Позиция Елены Сергеевны во всем, что касалось читательской жизни «Мастера», была сухой и четкой— ни с оглаской, ни с утечкой, ни с кустарным тиражированием оригинала Он не согласился бы, а раз Он этого не желал, то и она не могла оставить открытой для неожиданностей хоть какую-нибудь, даже чисто теоретическую, что называется, вероятностную лазейку.
Я продолжал конспектировать «Мастера», постепенно приближаясь к пониманию его лирического автобиографизма, научаясь видеть булгаковское и в порывистой, проникновенной «сегодняшней» прозе, и в золотой чеканке библейских глав.
Яркие краски романа продолжались в пестроте жизни, протекавшей под крышей этого дома. Хотя Михаил Афанасьевич никогда не жил в квартире у Никитских ворот, его вдова сумела вдохнуть в нее булгаковское мироощущение, а еще особую напряженную мемориальную ноту, чувство, что писатель ушел в небытие именно отсюда, встав из-за этого секретера или выйдя из этой спальни.
Часто звонил телефон, Елена Сергеевна помногу разговаривала с невидимыми собеседниками, обычно, как явствовало из ее последующих замечаний, по булгаковским делам. Чем дальше, тем больше назначала аудиенцию людям, мечтавшим причаститься — или хотя бы прикоснуться — к булгаковскому наследию. Всю эту — для меня закулисную — деятельность она вела с высочайшим искусством, неукоснительно проводя принцип: каждый имеет право встречаться с Булгаковым один на один. Бывал я у Елены Сергеевны, начиная с этого лета, довольно регулярно, порой два-три раза в неделю, но сталкивался с другими поклонниками Булгакова, да и вообще с другими, лишь в исключительных случаях — ну, если забывал предупредить о своем визите сам или кто-то еще проявлял такую же забывчивость.
Кто с кого списан? Что под чем подразумевается? Мастер? Маргарита? Воланд? Автобиографизм романа Елена Сергеевна считала чем-то само собой разумеющимся, почти непроизвольно рассуждала об истории Мастера и Маргариты, как о метафорической версии своей собственной — и булгаковской — судьбы, причем в этом случае факты романа и жизни были для нее настолько равнозначны, что могли меняться местами.
— Булгаков на самом деле сжег роман, — говорила она и клала передо мной тетрадку с вырванными, вернее, оборванными до середины страницами. — То, что осталось, — доказательство: роман на самом деле был.
Многие лирические подробности романа — первая встреча Мастера и Маргариты, их мечта о вечном покое, не говоря уже о самой любви, великой, запретной, победной, являлись для Елены Сергеевны поэтической и одновременно репортажно-дневниковой записью того, что было на самом деле.
О том, когда и как будет издан «Мастер», Елена Сергеевна говорила с мечтательным упоением, но не без деловитости.
— В этом году — «Мольер». Потом — пьесы. Потом — «Записки юного врача». Потом — «Белая гвардия». Потом — «Театральный роман». И тогда я предъявлю «Мастера».
За ее «предъявлю» — ручаюсь. По-иному она не обозначала свои грядущие действия, только так: предъявлю. То есть приду, положу на стол — и пусть устоят!
Впрочем, Елена Сергеевна была трезвой реалисткой, вернее, жизнь приучила ее к трезвому реализму. Трудности, связанные с публикацией тех или иных произведений Булгакова, она понимала и предвидела; здесь — инерция предубеждений, тут — нетрадиционный подход к МХАТу, там — неплакатное изображение русского офицера. И посему каждую ступеньку приближения к высшему булгаковскому триумфу — к изданию «Мастера» — исчисляла двумя, а то и тремя годами. Таким образом, у нее получалось, что «Мастера» напечатают в начале семидесятых годов.
Через Булгакова она воспринимала всех и все. Первые наши с ней разговоры о Константине Михайловиче Симонове протекали всегда по одной схеме. Я говорил о том, как много он делает для пользы литературы — и несправедливо забытых писателей особенно. Она щурилась:
— Председатель комиссии по литературному наследию Булгакова мог бы сделать для Булгакова больше.
Этот диалог повторялся изо дня в день и принял иной характер только потом, когда Елена Сергеевна убедилась на фактах в горячей приверженности Симонова булгаковскому делу. А уж тогда трудно стало найти в Москве или, может быть, даже в целом мире человека, который почитал бы Симонова щедрее и искреннее, нежели Елена Сергеевна.
Чем ближе к моему отъезду, тем чаще посещала нас с Еленой Сергеевной тема: как и когда будет издан «Мастер»? Сейчас этот вопрос выглядит странным и праздным. Разве применима формула «как издать» к великим произведениям, к шедеврам, к классике? Но не стоит забывать, что имя Булгакова еще и в начале 60-х годов, и много позже было окружено ореолом предвзятости. Да и сам роман способен был озадачить любого издателя, даже весьма широко мыслящего и эрудированного. А уж догматика, с ее тематическими представлениями «одно — отражено, другое—недоотражено, третье — упущено» так и вовсе повергала в ужас.
«Как будет радостно, когда настанет этот неописуемо прекрасный день и перед вами. Елена Сергеевна, ляжет на стол фолиант, пахнущий свежей типографской краской!» (О, этот святой шаблон и эта неизменно волнующая деталь литературной жизни!).
Июль подошел к концу, а вместе с ним подошла к концу и моя командировка. Когда полупустой ИЛ-18, выполнявший ночной рейс в Ташкент, оторвался от земли, все обязательные летные волнения стали вдруг необязательными, призрачными, и единственной осязаемой реальностью показался конспект «Мастера». Там, в чемодане, у ИЛа в брюхе. И никакие казусы не были страшны, точно самолет несла по небу неодолимая сверхъестественная сила, точно защищал его от напастей и катастроф сам Воланд, а вернее — человеческий гений, равно воплотившийся и в булгаковском творении, и в этих электрических огоньках внизу, и в спокойном гуле мотора.
Московские духовные дары я раздавал налево и направо. «Звезде Востока» — «Записки покойника», театру имени Горького — «Ивана Васильевича», Татьяне Сергеевне Есениной и Юре Кружилину — пересказы «Мастера», родному институту — отчеты о моих научных поисках. В этой лихорадочной деятельности незаметно промчался месяц, еще сколько-то времени поглотил отпуск, и тут набежала осень, и стало очевидно, что пора снова в Москву: добирать материал, согласовывать тему, думать о «Мастере».
Я никак не мог успокоиться и сочинял издательские планы. Наконец, остановился на варианте, который, во-первых, выглядел и практичным, и осуществимым, а во-вторых, приводил к общему знаменателю мои научные интересы — они ведь были обращены не только к Булгакову, но и ко всей нашей большой сатире. Так в очередной аспирантской тетрадке появился набросок: «Библиотека советского сатирического романа в 12 томах. Проспект».
Украшением проспекта, а потенциально — и всего издания являлся восьмой том, куда определено было войти «Мастеру и Маргарите». С проспектом в руках я более не ощущал себя безоружным. Проспект самим фактом своего существования призывал действовать — и задавал некую программу действий.
Первым делом я очутился в «Новом мире» у Александра Григорьевича Дементьева —он тогда был заместителем главного редактора, а редактором был А.Т.Твардовский, и казалось, что уж на этом пути ждут меня заманчивые развилки, уводящие напрямую к реализации самых честолюбивых планов со сказочным замком в финале. Но никакой такой замок в «Новом мире» меня не ждал.
— А-а, разбойник! — обычным своим приветствием встретил меня Дементьев и, выслушав с добродушной рассеянностью, погрузился в чтение преамбулы к проспекту. Потом, забросив очки на лоб, сформулировал свою стратегическую теорию. Как он считал, проспект должен был сначала обрасти подписями крупных литературных деятелей. Александр Григорьевич решительным росчерком пера положил начало лавине, которая в дальнейшем, конечно, не состоялась. У меня не было ни времени, ни просительского запала Я пошел по линии наименьшего сопротивления. То есть позвонил Константину Михайловичу Симонову, вкратце изложил ему суть дела и попросил приема.
Идея «Библиотеки сатирического романа» в ее первозданном виде, признаюсь, не вызвала энтузиазма у Константина Михайловича. «Почему только романа? — Надо брать шире. Иначе выпадет многое такое, без чего немыслима наша литература. Пускай это будет «Библиотека сатиры и юмора». Два-три тома рассказов. Миниатюры, пародии, эпиграммы.
— Может быть, еще и комедии? — с необъяснимым (и самому мне непонятным) ехидством переспросил я.
— И том комедий! — подтвердил он. — Почему бы нет.
Через несколько дней я приехал к Симонову с новым проспектом. Наскоро составленный, этот проспект, тем не менее, учитывал самые интересные работы советских новеллистов. Попала в проспект бездна имен, и пародия, эпиграмма, стихотворный фельетон тоже не были обойдены.
— Насчет комедий, правда, я — пас, — дерзко объявил автор проспекта Константину Михайловичу.
Симонов положил перед собою лист бумаги и набросал содержание тома. Маяковский с «Клопом» и «Баней», «Чужой ребенок» Шкваркина...
— Может быть, еще и «Стряпуху» включите? — продолжал я ехидничать.
— Конечно, и «Стряпуху» включу. Париж стоит мессы!
Сердце мое радостно билось, Симонову абсолютно чуждо прожектерство. Коли он тратит часы на эти комедии, стало быть, считает нашу затею жизнеспособной. Симонов между тем по-наполеоновски переключался с одного занятия на другое. Разговаривал по телефону, прибавлял строчку-другую к проспекту, бегло, по-орлиному заглянув в мой список, озадачивал меня очередным вопросом. В частности:
— А что это — «Мастер и Маргарита?»
— Это очень сложный роман. Действие происходит параллельно в двух временах... Библейские главы чередуются с современными... Сатана попадает в Москву тридцатых годов...
— Вы мне проще скажите: это за советскую власть или против?
— Это не о том, — начал я неуверенно, приученный, что «за советскую власть» и «о советской власти» — синонимы. Сегодня я безоговорочно ответил бы «за советскую власть», но, чтобы дозреть до такого ответа, мне, да и всем нам понадобилось немало времени.
- Гослит — затяжное дело, — рассуждал Симонов. — Пока они раскачаются, сколько времени уйдет впустую. Давайте ориентироваться на «Огонек». Двадцать четыре тома ежегодного приложения — можно развернуться.
— Толя, — говорил он через минуту в телефонную трубку, адресуясь к А.Н.Софронову, — тут есть одна идея... Вряд ли стоит обсуждать ее по телефону.
Двадцать восьмого ноября все того же шестьдесят второго года я спешил к двум в «Огонек». Софронов сидел за редакторским своим столом. Перед ним, справа от стола, расположился Симонов.
— Чтоб не объяснять долго, прочти вот это, — и Симонов протянул Софронову проспект. Софронов взял бумагу, введение проигнорировал и впился глазами в перечень произведений, расписанный по томам.
- А что такое Булгаков — «Театральный роман», «Мастер и Маргарита»...
Я начал было мусолить спои привычные разъяснительные фразы, но Симонов прервал меня:
— Этот том еще нужно продумать. Возможно, понадобится замена.
Он ручался за то, что знал, и, ручаясь, дрался напропалую. Поручиться за то, чего он не знал, Симонов не мог. Когда прочитал «Мастера и Маргариту», он сделал все, чтоб роман увидел свет. И ничего не боялся. А вот поддерживать своим авторитетом нечитанное не стал.
Софронов отложил проспект и произнес в заключение:
— Замечательная идея. Читателю — наслаждение, издательству — прибыль, а нам — слава!
Приложения к «Огоньку» — книги массовые, они делаются на основе ранее существовавших научных, тщательно подготовленных и продуманных изданий. А замысел «Библиотеки сатиры и юмора» при прочной литературной основе страдал существенным практическим недостатком — слабостью (или, прямо говоря, отсутствием) издательского тыла, сложившейся книжной традиции. «Библиотеку» следовало создавать прочно, на академический манер. По плечу ли такая работа «Огоньку», у которого нет (или, во всяком случае, тогда не было) самостоятельной книжной редакции? Полагаю, что именно по этой причине проспект так и остался проспектом. Еще несколько недель о нем велись в «Огоньке» разные разговоры и переговоры. Интересовался развитием событий, стараясь помочь делу, тогдашний ответственный секретарь журнала Генрих Боровик. И, однако же, колеса замысла вращались как бы на холостом ходу, машина буксовала, ни на шаг не двигаясь вперед. Вскоре я поймал себя на том, что живу уже без всякого «Огонька».
Елена Сергеевна изо дня в день выслушивала мои реляции с превеликим вниманием, заставляя меня чуть ли не в лицах разыгрывать сцены, происходившие в журнальных кабинетах. Она буквально впивала каждое слово о Булгакове, пускай даже мимолётное, шальное, относясь с олимпийским спокойствием к утилитарным деталям. Она переживала посмертную булгаковскую славу с каким-то сверхчеловеческим горением, точно нужно ей было наволноваться сразу за двоих — за себя и за него. «Боже, если бы Миша это слышал!» — говорила она, глядя на овальный портрет и, по-моему, верила, что он и на самом-то деле слышит.
Время шло. Менялись наши с Еленой Сергеевной отношения, делаясь проще и дружественней. Зная, что Елена Сергеевна воспринимает меня по-доброму, я порою нарушал границы дозволенного, — впрочем, как говорится, не корысти ради. Так вышло, например, когда в Москву приехала Татьяна Сергеевна Есенина и я захотел приобщить ее к «Мастеру». Мы пришли в булгаковский дом без предупреждения. Отворив дверь и выслушав мои предисловия, Маргарита шестидесятых годов, по-моему, внутренне ахнула, но виду не подала, обворожительно улыбнулась, сделала шаг назад, и тотчас все завертелось в вихре блистательного гостеприимства. Черный кофе, остроумный обмен репликами по программе-минимум. И — «Мастер».
С сентября шестьдесят второго по февраль шестьдесят третьего я продолжал работать в Ленинке, нанося Елене Сергеевне регулярные визиты. Она меня потчевала новинками своей кухни и булгаковскими новостями: звонили такие-то и такие-то люди, интересовались автором «Турбиных» и «Мольера», а такой-то человек приходил, просил разрешения познакомиться с рукописями, а такой-то журнал через своего сотрудника затребовал непубликовавшийся рассказ. Ветер всеобщего любопытства и доброжелательства уже не просто полоскался в парусах булгаковской ладьи, а надувал их до предела. Когда я впервые появился у Елены Сергеевны, изучать творчество покойного мастера собирался, по ее словам, один-единственный специалист. И только. Теперь к Булгакову — и к его земной представительнице, Булгаковой, устремились многие. Аспиранты. Журналисты. Редакторы. Кинорежиссеры. Почитатели и, главным образом, просто любопытствующие.
Жизнь Елены Сергеевны феерически расцвела. Книжечкой библиотеки «Огонька» вышли «Записки юного врача», замелькали публикации рассказов и фельетонов в периодике. Издательство «Молодая гвардия» заказало ей перевод биографического романа Андре Моруа о Жорж Санд, и вскоре Елена Сергеевна дарила мне очередное издание серии «Жизнь замечательных людей» — булгаковскую работу, но не Михаила Афанасьевича Булгакова, а Елены Сергеевны Булгаковой.
Александра Николаевна Дмитриева взялась за подготовку монтажа «М. А. Булгаков» для очередного тома «Автобиографий советских писателей». Как бы избегая поверять бумаге, и, таким образом, повторять свою печальную жизнь, Михаил Афанасьевич не оставил путного ее описания. Дмитриева со свойственной ей зажигательной энергией уговорила Елену Сергеевну извлечь из домашнего архива письма и т. п. Так был подготовлен биографический очерк, в скором времени опубликованный. В один из своих очередных приездов я был обрадован сообщением Елены Сергеевны: «Новый мир» собирается напечатать «Записки покойника». Тон ее в этот момент являл удивительный сплав спокойной будничности и неистового торжества. «Театральный роман» был напечатан. Кстати, как «Театральный роман», а не как «Записки покойника». Лучше напечатать «Театральный роман», чем не напечатать «Записки покойника», — пошутил Симонов.
Главы, посвященные булгаковским романам, я писал зимой шестьдесят четвертого года в Ташкенте, в спешке, прямо перед сдачей рукописи в набор. Когда мне чуть ли не фельдъегерской почтой доставили из Ташкента контрольный экземпляр книги и я с дрожью в коленках принес его Елене Сергеевне, она, бегло проглядев страницы булгаковского раздела, тотчас воспарила на такие высоты ликования, что огрехи текста даже автору стали казаться микроскопическими мелочами.
— Это чудо! — восклицала Елена Сергеевна, почти задыхаясь в приступе торжествующего смеха — Это просто чудо!!! — Очки ее сползли на нос, а может быть, она просто посмотрела поверх очков, и я увидел, как молодо блестят ее чуть косящие ведьмины глаза. — Это все штуки Воланда!
Позже она присмотрелась к тексту получше и претензии мне предъявила.
Я с благодарностью подарил ей первый — и единственный, имевшийся у меня тогда, — экземпляр книги. Пространная надпись на титульном листе содержала восторженную оценку вклада Булгаковой в булгаковские дела, по сравнению с которым усилия литературоведов мало что значили. Елена Сергеевна — тоже с благодарностью — приняла книгу и показывала ее всем. Может быть, эта реклама и способствовала скорому исчезновению книги: ее украли. Бывает, книгу берут и не возвращают. А «Советский сатирический роман» самым недвусмысленным образом украли. Нечто подобное произошло и с экземпляром в отделе открытого доступа на втором этаже библиотеки им. В. И. Ленина. Не льщу себя предположением, что кого-либо заинтересовал мой труд сам по себе. Подробный пересказ булгаковского романа с обширными текстовыми иллюстрациями — вот, по-видимому, ради чего люди роняли свое достоинство.
Чтоб покончить с книгой, добавлю: ей суждено было еще несколько раз фигурировать на ролях вспомогательного средства при решении булгаковских дел. Так, например, мне рассказывали, что К.Симонов использовал ее в виде позитивного аргумента, когда решался вопрос, включать или не включать статью с рассуждениями о неопубликованном еще «Мастере» в шеститомник В. Каверина.
Комиссия по литературному наследию Булгакова положила мою книгу рядом с рукописью «Мастера и Маргариты» на стол перед редактором журнала «Москва» Евгением Ефимовичем Поповкиным. Поповкин прочитал рукопись. Познакомился с толкованием романа в книге: И сказал:
— О романе так подробно пишут, пора печатать.
Летом шестьдесят шестого года, кажется, в июле мне передали:
— С вами хочет говорить Евгений Ефимович Поповкин. Вот его телефон. Звоните. Я позвонил Поповкину и, не веря собственным ушам, услышал:
— Мы хотим печатать «Мастера и Маргариту». Не возьмете ли на себя труд сделать предисловие? С вашей книгой я познакомился. Считаю, что в романе вы разобрались.
Телефонная будка, в которой я себя обнаружил, положив трубку, показалась мне тогда сказочной каретой — вот-вот умчит она меня к Мастеру и Воланду, к Иешуа и Пилату, живым, реальным.
Я работал над предисловием много: обнаружилось вдруг, что вовсе не так уж готов к этому свершению. Мне опять пришлось сидеть, не разгибая спины, в Ленинке — по десять, по двенадцать часов в сутки. Перерывы тоже использовал для дела. Журнал «Москва» помещался тогда на Арбате, в десяти минутах ходьбы от библиотеки. И я наведывался туда изо дня в день.
«Мастера и Маргариту» вела Диана Тевекелян — она заведовала в «Москве» отделом прозы. С ней-то, а также с Е. С. Ласкиной из «поэзии», обсуждались задачи предисловия, его общий дух, даже его детали. Но это были именно детали. Главное, что меня и их волновало: примет ли редколлегия роман?
В один из августовских дней меня пригласил на собеседование член редколлегии В.М.Андреев. Этот седеющий доброжелательный человек, по виду больше спортивный тренер, нежели кабинетный работник, разговаривал со мной о Булгакове без малого три часа. Его интересовало абсолютно все — от детских затей будущего писателя до его журналистской карьеры, от сценических, актерских экспериментов Михаила Афанасьевича до философской концепции «Мастера». От Владимира Михайловича я узнал, что существует намерение дать в журнале лишь первую, менее сложную часть романа, оправдав это сокращение формой подачи: из архивных материалов. Я по мере сил оспаривал правомерность такого решения. По-моему, и сам Андреев, и Тевекелян, и Ласкина, и, конечно, комиссия по булгаковскому наследию тоже стояли за полный текст. Но редколлегия есть редколлегия, а в редколлегии восторжествовало на первых порах другое мнение. Только в последний момент, когда одиннадцатый номер журнала «Москва» за шестьдесят шестой год, содержавший первую часть романа со вступительным словом К.М.Симонова и моей заключительной статьей, подписывали в свет, у редколлегии созрел вывод: «Мастера» надо печатать целиком. В оглавлении появилась ремарка: «Окончание в № 1 за 1967 год». Послесловие переносить было поздно. Так оно и вклинилось в середину публикации.
Но я опережаю события. Итак, ноябрь шестьдесят шестого еще не настал. В разгаре лето, и я ношу варианты своего предисловия — один, другой, третий — к Елене Сергеевне. И я опять работаю над предисловием. В конце августа Елена Сергеевна говорит мне по телефону примерно следующее:
— Я высоко ценю ваше доброе, искреннее и бескорыстное отношение к булгаковскому наследию. Вы любите «Мастера» и бесспорно принесете во имя романа небольшую жертву. Прошу, откажитесь от вашего предисловия. Предисловие согласился написать Симонов. Вы не можете не понять, что его непосредственное участие в публикации — в интересах дела. Позвоните, пожалуйста, ему.
Кто спокойно воспримет такой удар? Я не чувствую обиды. Я сознаю правоту Елены Сергеевны. Но все равно какой-то ком торчит у меня в горле. Тем не менее, собравшись с духом, звоню Симонову. Так, мол, и так, Елена Сергеевна мне обо всем сказала. Я, конечно, все понимаю, и все в таком роде.
— Знаете что: приезжайте ко мне... Или нет, лучше завтра утром...
Наутро я был у Симонова. Расспросив меня о моих личных делах, литературных и даже бытовых, Константин Михайлович сказал:
— Комиссия просит написать предисловие меня — вроде бы я подходящая пожарная команда. Но я не мог принять предложение, не посоветовавшись с вами. А что, если так: в начале -- мое вступительное слово, в конце — ваш комментарий?
Промежуток времени между первыми разговорами о печатании «Мастера» в «Москве» и выходом одиннадцатого номера в свет представляется мне ныне долгим солнечным днем, наполненным волнениями, событиями, тревогами, но все равно безмерно радостным, весенним. Днем, длинным, как поезд, каждый вагончик которого, в свою очередь, день — только маленький, легко обозримый и со сложностями.
Однажды, уже совсем незадолго до выхода одиннадцатого номера, я зашел в двухэтажный книжный магазин в начале улицы Кирова и увидел на прилавке темно-синий том с серебряным тиснением: «М. Булгаков. Избранная Проз». По простоте душевной я купил два экземпляра, хотя вполне мог бы забрать всю наличность, все девять, и пошел звонить Елене Сергеевне. Елена Сергеевна, еще не получившая, как выяснилось, ни сигнальных, ни контрольных, сразу же задала мне взбучку: «Вы с ума сошли! Всего два!.. Ждите, пока закончится перерыв, и хватайте все остальное!» Увы, после перерыва не было ничего остального. «Булгаков кончился», — сочувственно сказали мне продавцы, когда я растолковал им ситуацию. Елена Сергеевна, одновременно гневная и милостивая, встретила меня на пороге, выхватила книги из моих рук и, перемежая радостные возгласы по поводу издания саркастическими репликами на мой счет, принялась разглядывать нарядные томики — да что там разглядывать — ласкать. Все же она по-братски разделила «Избранную прозу» — один экземпляр оставила себе, а другой великодушно презентовала мне, надписав в знак прощения: «Верному другу...»
И еще один Булгаков был опубликован в середине шестьдесят шестого. На страницах ташкентской «Звезды Востока» вышла с моим коротеньким предисловием комедия «Блаженство» — вариант «Ивана Васильевича», где этот герой с помощью машины времени попадает уже не в прошлое, а в будущее. Авторский экземпляр журналом вдове выслан не был. Во всяком случае, Елена Сергеевна его не получила. И сетовать на ташкентцев было грешно: седьмой номер «Звезды Востока» набирался, верстался, печатался в условиях непрекращающегося землетрясения. В итоге пришлось подкарауливать журнал в киоске на площади Революции. Досталась мне всего одна книжка, которую Елена Сергеевна безжалостно конфисковала в свою пользу, подарив взамен корректуру.
И вот пришел в середине ноября этот долгожданный день. Елена Сергеевна, когда я позвонил ей поутру из библиотеки, отправила меня в «Москву», а часов в одиннадцать к подъезду редакции «Москвы» причалил огромный лимузин адмирала Исакова, и вместе с молодым морским офицером, которому тоже нужен был одиннадцатый номер — там печатались воспоминания флотоводца, мы, то есть технический редактор журнала и я, поехали в типографию «Красный пролетарий». Из брюха (или трюма) старого кирпичного здания в багажник машины хлынул поток сиреневатых журнальных книжек — их, наверное, кто-то считал и учитывал, но мне в тот момент происходящее казалось неким стихийным явлением — извержением вулкана, что ли. А потом пучина захлопнулась, лимузин развернулся и поплыл... Наконец, Никитские... Елена Сергеевна ждала нас на улице. Я перетащил заказанную часть тиража в дом, и там, в комнате, где я впервые читал «Мастера», под овальным портретом, Елена Сергеевна начала, ничего не видя от волнения, перелистывать журнал. Может быть, она спешила показать опубликованное Ему.
Ну а дальше была обычная суматоха, сопутствующая выходу книги, — одновременно и неповторимый праздник, и рутина. Елена Сергеевна раздаривала свои сто экземпляров налево и направо, так что вскоре ей понадобились новые. А я забрал свои двадцать и пошел по друзьям — тоже раздаривать. «Мастер» стал объективной реальностью, открытой и для восхищения, и для брани, и для научного анализа, и для споров.
* * *
Поражаюсь: как меняют возникающие как бы ниоткуда, из ничего, из воздуха вымыслы наш мир и наше мироощущение. Всего только несколько десятилетий назад не было в мировой культуре «Мастера и Маргариты». И мировая культура превосходно обходилась без этого компонента. Вычтите из той же мировой культуры «Мастера и Маргариту» сегодня — и она поблекнет, померкнет, точно живой организм, лишенный какого-нибудь опорного витамина или стержневой химической реакции.
Судьба опубликованного «Мастера» развивалась поистине фантастично. Переводы на разные языки, делавшиеся по следам еще неостывшей публикации в журнале «Москва», низвергались на Елену Сергеевну один за другим — и она, по-моему, относилась к ним, как к чему-то такому, что уже тысячу раз видела, просматривала в безошибочном кинематографе своих пророческих видений.
Меня эта заграничная шумиха тоже удивляла, радовала, но и пугала одновременно. Удивляла мгновенной реакцией: как быстро, однако же, учуяли они там, на западе, что «Мастер», скажем так, произведение неординарное. Радовала молниеносным торжеством справедливости и всемирными масштабами. Пугала комментариями.
Раскаты этих комментариев впервые донеслись до меня посередине паузы между одиннадцатым номером «Москвы» за 1966 г. и первым — за 1967-й, то есть тогда, когда роман полностью еще не вышел. Эхо опережало звук и даже причину звука.
Если объясняться без недоговорок, то надо, наверное, рассказать о том, как остановила меня однажды в коридоре издательства одна очень осведомленная редакторша, по слухам, жена еще более осведомленного ответственного работника. Остановила — и, уводя глаза в сторону, спросила, не могу ли я достать ей вторую половину романа. Был декабрь. До января, а стало быть, до первого номера «Москвы» со второй половиной оставались считанные дни. Я буквально так и сказал ей с наивной прямолинейностью (или, более того, прямолинейной наивностью):
— А уже через неделю журнал выйдет!
— Выйдет ли? — многозначительно сказала она. — Что ж, нет у вас, значит, текста? Жаль, жаль... — И удалилась столь же многозначительно...
Таков был первый намек на сомнения, будто бы появившиеся у каких-то высоких распорядителей печати: следует ли доводить до конца публикацию. А причиной этих сомнений как будто стали зарубежные отклики на одиннадцатый номер.
Долго колебалась где-то за кулисами стрелка барометра, выдававшего погоду на «Мастера». Долго не срабатывал механизм весов с противоборствующими чашами: «за» и «против». Долго балансировала судьба «Мастера» между бытием и небытием на ниточке чьего-то настроения или каприза. Чьего? У меня перед глазами в ответ на этот вопрос возникал образ каменной статуи: античный мужчина с невозмутимым слепым взглядом смотрит в отдаленнейшие дали, а может быть, никуда не смотрит, и все вокруг ждут, когда же он моргнет — и каким глазом, левым или правым.
Много каких-то потайных бесед и схваток выдержала Диана Тевекелян, причем, молча, не рассказывая ничего никому из своих соучастников (вроде меня), тем более, неисчислимому сонму болельщиков. И вот, наконец, стало ясно, что процесс — во всяком случае, типографский процесс — необратим: «Мастер» появится полностью.
И он появился полностью. Если не считать того, что с купюрами. Купюрами наивными и часто необъяснимыми, но, естественно, — при разглядывании со стороны — многозначительными. А раз так — пошли всяческие толки, у нас устные, на западе же — печатные: что, как, кем и, главное, почему выброшено? Самые крамольные идеи нанесли бы зарубежным мнениям о советской печати меньший ущерб, нежели эти немотивированные сокращения.
Собственно говоря, какими-то мотивами инициаторы купюр руководствовались, какими-то внешне целесообразными доводами прикрывались. В том смысле, будто автор — доживи он до наших дней — и сам бы многое изменил в рукописи. Или еще: якобы данная публикация, будучи мимолетным флиртом журнала с архивами, не претендует (да и не может претендовать) на академическую полноту. Человечеству, дескать, вообще повезло: появился как-никак практически весь роман, а ведь могла выйти одна только первая часть или просто отрывки, фрагменты, что очень характерно для ненаучных изданий.
В стенах «Москвы» упоминались еще и другие мотивы. С одной стороны, внешнеполитические: тамошняя реакция на роман спровоцировала якобы команду сверху, чтоб вещь максимально ужали, главным образом, за счет чертовщины, скандалов, безобразий. С другой — чисто внутренние, до смешного утилитарные. Первый номер журнала за 1967 г. печатал пространные путевые заметки одного члена редколлегии. И вопрос стоял так: откуда заполучить недостающий этому впечатлительному автору листаж? Вот и нашелся выход...
Не располагаю сведениями, которые позволили бы мне сделать безоговорочный выбор между вариантами: какой из них обусловил текстологию журнального «Мастера». Думаю, что произошло сложение многих сил: и тех, что названы здесь, и других, возможно, более влиятельных. А результатом стала всем известная равнодействующая.
Мои рассуждения могут показаться критикой журнала. Отнюдь. Если б «Москва» не напечатала «Мастера» тогда, мы вряд ли дождались бы встречи с булгаковской вещью раньше середины восьмидесятых годов. Трудно даже осознать, сколь много потеряла бы от этой задержки наша культура!..
А ведь судьба «Мастера» не раз висела на волоске — задолго до закулисной возни вокруг второй его части. Не будем забывать, что главной фигурой во всей послебулгаковской истории романа была Елена Сергеевна, облеченная высокой властью определять за покойного автора, в каком конкретном текстологическом виде его произведение предстанет людям. Не утверждаю, что Елена Сергеевна вторгалась в текст, сводила одну редакцию с другой и т. п. Но настаиваю на ее решимости во всех деталях согласовать с ним очертания будущей публикации.
Что касается печатных отзывов – их пока не было.
Над романом простерлось тягостное официальное молчание. Потом прошел слух, будто на одной конференции докладчица (или содокладчица) задала аудитории риторический вопрос: «Зачем журнал «Москва» опубликовал роман Булгакова «Мастер и Маргарита»? Вопрос повис в воздухе. Потом в «Юности» появилась маленькая рецензия Е.Сидорова. Потом «Литературка» предоставила слово талантливому аспиранту из города Горького. Как сказал бы известный литературный герой, лед тронулся...
Пока роман нарабатывал себе прессу, быстро складывалась его читательская репутация. Один полюс этого интереса — безоговорочное одобрение с эпитетами в превосходных степенях. Величайший роман века. А значит, его начинают называть в числе любимейших книг, как это сделал С. Юрский, увозить с собой на необитаемый остров, как Т.Доронина, приспосабливать под будущие кинематографические роли, как Клаудиа Кардинале. Свита поклонников «Мастера» так разрослась, что нет ни малейшей возможности хотя бы в общих чертах наметить ее контуры, даже если перечислять одних нобелевских лауреатов, академиков или народных артистов.
Впрочем, перед нами как раз тот случай, когда авторитеты ничего не значат. Ибо лучший читатель — отнюдь не обязательно увенчанный лаврами корифей. И в этом плане «Мастеру» тоже посчастливилось, потому что любовь к роману достигла таких масштабов, что поклонников у него теперь целая армия, а среди множества можно отыскать читателя любой квалификации, ранга, толка, возраста и т. д. и т. п. С другой стороны, у романа существует оппозиция. Есть люди трезвого ума (иногда тоже с учеными степенями, высокими званиями и солидными должностями — последних в оппозиции особенно много), которые ставят вопрос ребром: зачем писать так сложно, если можно писать просто? Я упрощаю их точку зрения — они, надеюсь, не обидятся, поскольку и сами требуют от других простоты и упрощений.
Эта оппозиция настолько сильна в определенных кругах, что ее можно было бы назвать большинством, если бы она не стеснялась или не опасалась выражать свои мнения публично — очевидно, по принципу голого короля. К этой группе читателей примыкают многочисленные вульгаризаторы искусства, ищущие в нем копию сегодняшних иерархий, а не общечеловеческие ценности. Друзья часто упрекают меня в равнодушии к Булгакову как к литературоведческой проблеме. Что я им отвечаю? Научная цель, какую я поставил себе, прочитав рукопись «Мастера и Маргариты», сразу же приняла форму конкретного замысла, неотвязного, как мания: напечатать этот роман. Но вот роман напечатан, я этому как мог содействовал. А иных амбиций с «Мастером» я не связывал — да и не захотел связывать позже, когда вокруг имени Булгакова завязалась борьба литературно-критических самолюбий.
Август ВУЛИС
На SREDA.UZ с некоторыми сокращениями опубликована глава из книги «Вакансии в моем альбоме"





















































































































































































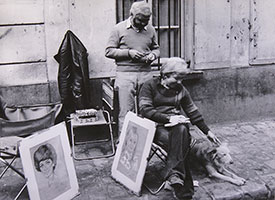












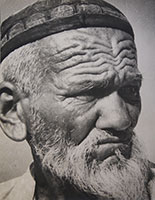



















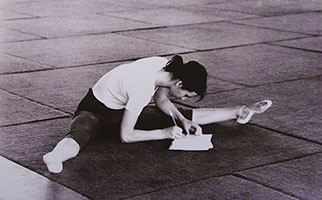

















 Сегодня день рождения большого учёного, известного лингвиста и самого продуктивного лексикографа XX века Александра Николаевича Тихонова – доктора наук, профессора, выдающегося учёного, человека неуёмной энергии и инициативности, преданного науке до последнего дня своей жизни.
Сегодня день рождения большого учёного, известного лингвиста и самого продуктивного лексикографа XX века Александра Николаевича Тихонова – доктора наук, профессора, выдающегося учёного, человека неуёмной энергии и инициативности, преданного науке до последнего дня своей жизни.