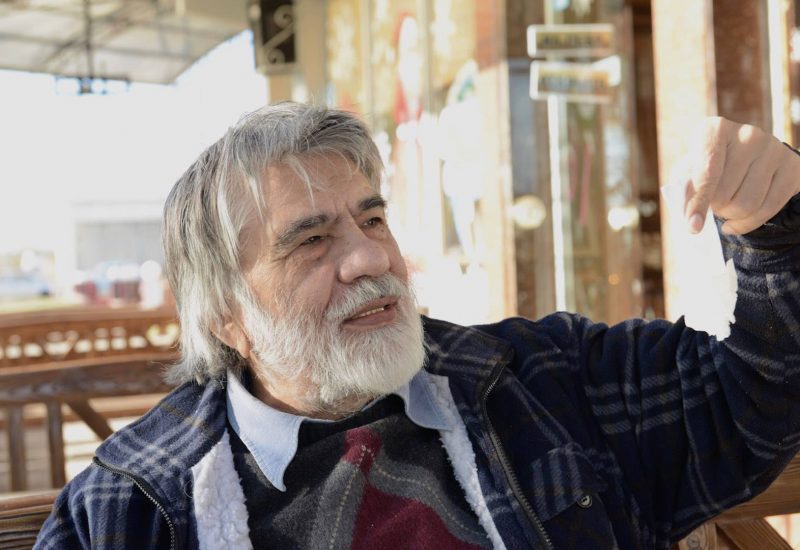Переслал Вячеслав Шатохин.
Война сразу же коснулась и нашей семьи. Спустя несколько дней после начала войны к нам зашел папин друг еще по Первой конной армии, военком Цюрупинска майор Комиссаров.
Он и раньше наведывался к нам. Посидит, поговорит с отцом, иногда задерживался на обед, но сегодня он очень спешил.
Мама пригласила его к столу, но Комиссаров безнадежно махнул рукой:
- Уважаемая Малка Моисеевна! Я не успеваю выпить даже стакан воды... Массовая мобилизация... - и тихо добавил: - На фронте дела неожиданно плохи... Очень плохи...
Потом негромко сказал отцу:
- У меня больше некому поручить это важное дело... Я пришлю на тебя повестку в райком, пусть найдут человека, который сможет тебя временно заменить. А ты приходи завтра с утра на городской стадион - будем вести отбраковку лошадей для Армии.
Распоряжение колхозам, совхозам и конефермам о пригоне лошадей уже разослано. Идет срочная мобилизация кавалерии…
Теперь отец целыми днями пропадал на городском стадионе. Кроме него, здесь было много военных и очень много лошадей.
Их приводили поодиночке или пригоняли большими табунами. Кони, как и люди, подлежали военной мобилизации. Война была войной для всех.
Отец и еще несколько специалистов вели выбраковку лошадей, то есть отбирали лошадей, пригодных к строевой службе.
Что касается меня, то я доставлял отцу питание. Мама готовила обед, вручала мне судки с первым и вторым блюдом, а также кисель или компот, и я отправлялся на стадион к отцу. Иногда мы ходили вместе со старшим братом Ионом.
Увидев нас, отец всегда махал рукой, улыбался и просил немного подождать.
На этот раз мы присели в тени забора, окружавшего стадион. Этот высокий дощатый забор был нам хорошо знаком. Сколько раз мы, мальчишки, при каждом интересном футбольном матче (а неинтересных матчей никогда не было) проникали на стадион, через известные нам дыры!
Вскоре Ион отправился по своим мальчишеским делам, а я остался сидеть в тени.
Я смотрел, как наш сосед, ветеринар Герц, обследовал лошадей, осматривал глаза, зубы и даже… заглядывал под хвост.
Отец в это время проверял, подходят ли к военной миссии эти самые лошади. Внимательно осматривал ноги - нет ли серьезных увечий или иных недостатков, затем пробовал их в движении, даже на скаку, словом, контролировал все то, что характерно для строевой кавалерийской лошади.
Лошадей, как людей, записывали под копирку в какую-то ведомость и тут же под расписку передавали всегда торопившимся военным.
В этот день на стадионе я увидел Тютюника. Он помогал отцу в его важной для фронта работе.
За прошедшие три или четыре года после того, как я делал ему гоголь-моголь, Тютюник неузнаваемо изменился. Его засученные по локоть рукава хорошо оттеняли загорелые руки и особенно кулаки-кувалды, и только мизинцы с раздробленными косточками так и не сгибались и были смешно оттопырены в сторону, как в кино, у аристократов, держащих бокалы с вином.
Когда пришло время обедать, отец подошел ко мне. Он разделил на две части принесенную ему еду, и они с Тютюником принялись за трапезу. Ели молча.
Я видел, что они оба очень устали. Неожиданно Тютюник сказал:
- Берл! Включи меня в свой эскадрон!
Я насторожился. В какой эскадрон отец должен включить Тютюника? Возможно, я чем-то выдал свое беспокойство, потому что они оба, как по команде, посмотрели в мою сторону.
И тогда отец, махнув рукой, сказал Тютюнику:
- Ладно, не сегодня, так завтра он все узнает.
Его лицо стало серьезным, и он обратился ко мне:
- Эльазар, тебе скоро четырнадцать, ты уже взрослый и понимаешь, что напавшего на нас врага надо остановить. И это сделаем мы - воевавшие люди.
Помолчав, отец тихо добавил:
- Завтра я уезжаю на фронт. Надеюсь, ненадолго. Уничтожим врага и вернемся. Берегите маму. И главное, сын, никогда не дрейфить!
Он хотел встать, однако Тютюник остановил его и решительно произнес:
- Берл, я поеду с тобой. Вместе воевали в семнадцатом, вместе повоюем в сорок первом!
Отец опустил голову, ничего не ответил.
И тогда Тютюник поднялся и начал убеждать отца. Он почти кричал:
- Что ты смотришь на меня как на калеку! У меня крепкие руки! Сломаны мизинцы?! Так они мне не мешают крепко держать шашку! Ты же знаешь, что я хорошо сражался в Испании, и мой испанский опыт может еще пригодиться. А пальцы - это ерунда... небольшая памятка.
Отец, так ничего и не ответив, поднялся и пошел продолжать свою работу. К тому же, лошадей всё пригоняли и пригоняли...
Тютюник вновь присел рядом со мной. Я слышал его взволнованное дыхание. Мне кажется, я его любил, как старшего брата Иона.
Когда отец ушел, Тютюник вытащил из большой полевой сумки, которую всегда носил с собой, бутылку, на которой я успел прочитать слово "спирт", сделал большой глоток, запил водой.
Долго молчал.
И тогда я отважился, задал ему давно волновавший меня вопрос, знает ли он что-нибудь о Черкусе, которого арестовали тогда же, когда и его, Тютюника.
Тютюник как бы очнулся от сна, внимательно посмотрел на меня, хотел, было, последовать за отцом, но, видя мой умоляющий взгляд, негромко сказал:
- Черкус погиб...
- Как?! - вырвалось у меня. - Расскажите, пожалуйста! - взмолился я. - Мне очень, очень важно это знать!
Тютюник как-то странно насупился, долго молчал, как бы решая рассказывать мне эту историю или нет. Потом глухим голосом начал:
- Черкуса обвинили во вредительстве и сионизме, и потребовали от него сообщить имена членов сионистского подполья, которое якобы он возглавлял еще в Джанкое, а затем и в колхозе "Реконструкция".
А так как Черкус ни о каком подполье не знал, и тем более не участвовал, из него начали "выбивать" нужные следователям показания...
При этих словах Тютюник, стиснул зубы, замолчал, видимо вспомнил, как на допросах в ГПУ-НКВД избивали и его самого, и как следователь раздавил сапогами его мизинцы.
Потом, овладев собой, продолжил:
- Черкус был очень гордый человек и, улучив момент, дал сдачу избивавшему его следователю...
Эти сволочи сломали ему нос, выдавили один глаз, думаю, отбили ему почки. Он мочился кровью...
Наконец, Черкус согласился подписать все, что они от него требовали. Следователь дал ему ручку и показал, где надо подписаться. Черкус еле держался на ногах, плохо видел и попросил его, приблизиться и указать точное место, где надо поставить подпись. Следователь согнулся над листом бумаги и ткнул пальцем.
И тогда Черкус, собрав все оставшиеся силы, повернулся и всадил ручку с пером в глаз своего палача...
Черкуса забили до смерти...
Я слушал молча, низко опустив голову.
Потом, видимо, желая рассеять тяжелое впечатление от рассказа, Тютюник промолвил:
- После вашего отъезда из колхоза, я еще несколько раз наведывался в посёлок.
- А Лесю Дмитриевну вы не встречали?- задал я еще один занимавший меня вопрос.
Леся Дмитриевна об этом периоде никогда ничего не рассказывала.
- Нет,- хмуро ответил Тютюник. - Её арестовали вскоре после гибели Черкуса. Больше ничего я о ней не слышал.
И тогда я рассказал ему, что Леся Дмитриевна сейчас в Алешках и работает учителем украинского языка. Кажется, он был рад этому сообщению.
Я остался на стадионе до позднего вечера. Домой идти не хотелось: я тяжело переживал предстоящую разлуку с отцом. Но из головы не уходил и рассказ о страшной судьбе Черкуса. Я чувствовал, как в моей душе навечно поселяется непонятная липкая тревога. Мир оказался далеко не таким справедливым, как я о нем думал...
На завтра мама сложила в небольшой фибровый чемодан две пары нижнего белья, носовые платки, шерстяные и простые носки и еще что-то, что я уже не помню.
Так она делала всегда, когда отец уезжал на "скачки".
Как обычно в таких случаях, отец шутил и улыбался. Он обнял нас, всех троих братьев сразу, чуть приподнял, потряс и сказал:
- Мой вам приказ: слушаться маму и помогать ей во всем!
Вскоре они с мамой вышли во двор, ведя какие-то свои, непонятные нам разговоры. Ион и Мошик поплелись вслед за ними.
В этот момент пришел Тютюник. За его плечами был большой вещевой мешок, а в руке он держал коробку, точнее крохотный чемоданчик.
Я видел, как у самого входа в наш дом, Тютюник приветливо поздоровался с мамой. Потом отозвал меня в сторону и сказал:
- Эльазар, я тебе как верному другу доверяю этот ящичек. В нем все то, что мне дорого. И я хотел бы его сохранить. Победим врага, я приеду, и ты мне вернешь его. Согласен ли ты поберечь мое имущество?
И, не дожидаясь моего согласия, передал мне, крест-накрест перепоясанный ремешком чемоданчик. Под ремешком к чемоданчику был хорошо прилажен никелированный замочек, точно такой, как на портфеле Леси Дмитриевны.
Единственная просьба, - с очень серьезным лицом сказал Тютюник: - Это - секрет!
А потом медленно добавил:
- Секрет - только мой и твой. Его надо сохранить.
И я, как можно тверже сказал: "Сохраню!"
Мама проводила отца и Тютюника до калитки. Тютюник попрощался и сразу ушел. Отец немного задержался, но я видел, что Тютюник ожидает за углом. Отец с мамой еще о чем-то поговорили, обнялись. Так, обнявшись, они постояли немного, и отец ушел на войну...
Где-то под Николаевым срочно формировалась конная армия ветеранов-буденовцев, чтобы разгромить фашистов, напавших на нашу Родину.
Первую тревожную весть мы получили спустя две недели от Комиссарова. Как всегда, он очень торопился.
- Мужайся, Малка! - сказал он, - события развиваются значительно быстрее, чем мы предполагали. К Николаеву прорвалась немецкая танковая колонна, и конная армия оказалась в окружении. И все же многим конникам удалось вырваться из мясорубки. Я очень надеюсь, что и на этот раз военное счастье не изменило Берлу...
Война приближалась к Алешкам.
В темном небе, подсвеченном тонким серпом луны, слышен был надсадный гул немецких тяжелых бомбовозов. Мы, стайка одноклассников, стоим у деревянных ворот нашего просторного двора и прислушиваемся к этому завывающему гулу.
Небо исчерчено лучами прожекторов, они, как шпаги, то скрещиваются, то разлетаются в поисках вражеских бомбовозов. Грохочут зенитки. До нас доносятся далекие взрывы бомб.
- Метят в мост, проложенный по днепровской пойме, а может в станцию Раденское… - шепотом произносит всезнающий Гринька Воскобойник.
Лично у меня слегка дрожат колени. Страшно.
Я слышал, что немцев остановили под Одессой, так почему же им позволяют бомбить пойму под Херсоном!? Где наши краснозвездные "ястребки?!"
В душе зарождается дикий протест против происходящего.
Уу-уу-уу… - переливчато гудят ночные немецкие бомбовозы…
- Уу-уу…- И вновь: - Бух! Бух! Бух!
День и ночь паромы и пароходы перевозят отступающие через Херсон войска. Измотанные, пыльные, усталые красноармейцы бредут большими группами, а вместе с ними бесконечный поток беженцев - старики, женщины, дети.
Несчастные люди, потерявшие всё, готовы отдать последнее за буханку хлеба, кусок сала или за несколько яиц.
Они даже готовы выменять свои незатейливые вещи на бутылку чистой колодезной воды...
В один из таких тревожных дней, в полдень, к нам забрела пожилая женщина, по-русски она говорила плохо. Послушав её, мама спросила на идиш: "Что вы хотите?" Женщина очень обрадовалась, что её понимают и даже расплакалась. Потом они с мамой быстро заговорили на их родном языке.
Я понял, что они бегут из Николаева, что немцы уже там и убивают евреев, что они еле успели удрать из горящего города и вторые сутки ничего не ели. И если что-то съестное можно купить, то это спасет её семью.
Мама взяла из буфета буханку белого хлеба, которую ранним утром я принес из пекарни, отрезала половину, потом велела мне принести из погреба кусок сала, достала из корзины несколько луковиц, все это завернула в полотенце и дала женщине.
Та принялась копаться в кошельке, чтобы достать деньги, но мама подтолкнула её к двери и сказала:
- Спрячьте, мадам, деньги, они вам еще пригодятся, - и добавила: - Вы бы на моем месте поступили точно так же!
И тогда женщина остановилась, посмотрела на маму своими грустно-воспаленными глазами и тихо сказала:
- Спасибо, дорогая... Каждый, все, что он делает, делает себе. Будь счастлива!.. Тебе все это воздастся сторицей…
Потом, уже у самой двери, эта женщина остановилась и как бы очнувшись, спросила:
- Почему вы не уезжаете? Немцы скоро будет здесь! Это не немцы времён кайзера Вильгельма! Это безумные кровавые убийцы! Я их видела…
Немедленно уходите! Под ногами евреев горит земля! Умоляю вас: поверьте мне, женщине пережившей много страшного на своем веку…
Она вдруг подошла к маме, обняла её, поцеловала и поспешно вышла.
Видимо, на маму очень подействовала эта встреча с несчастной беженкой, потому что она решила тут же отправиться в военкомат, чтобы посоветоваться с Комиссаровым, ведь он был близким товарищем отца.
Мама была необычайно взволнована. И я пошел с ней.
Я знал, что перед отъездом отец сообщил маме о месте сбора конников - это был город Николаев. Знал также и то, что как когда-то, сам маршал Буденный будет командовать непобедимой конной армией.
Но если правда то, что рассказала беженка и немцы в Николаеве, то где Буденный, и что с отцом?! Они должны были разгромить немецкие полчища!
Мама и я, идя навстречу потоку беженцев, с трудом добрались до военкомата. Здесь была масса людей военных и гражданских. К Комиссарову не пропускали. Тогда мама сказала, что она жена командира Шемтова и лично военком вызвал её по очень срочному делу.
Солдат кивнул и зашел к военкому. Вскоре к нам вышел сам Комиссаров. Он посмотрел на маму, как на чужую, то ли не узнал её, то ли сделал вид, что не узнал. Мама растерялась, схватила меня за руку и хотела уйти, но мы услышали охрипший голос Комиссарова:
- Малка! Почему ты здесь?! Я еще вчера послал за вами машину. Почему вы не уехали?!
Он был явно огорчен. Потом схватил маму за руку и потащил в свой кабинет.
Он разговаривал с мамой и одновременно бросал в горящую печь ворохи каких-то бумаг. В его кабинете никого не было. На столе лежал наган без кобуры.
- Мы оставляем город… - глухо сказал он. - И тебе с детьми надо срочно уезжать! Иди домой, подготовь детей, возьми с собой самое необходимое! За вами скоро приедут. Я лично прослежу!
Мы с мамой вновь влились в непрерывный поток беженцев, еще более уплотнившийся за счет отступавших войск.
Дома каждому из нас мама дала мешок, и велела заполнить его одеждой и бельем. Я, как меня учили на курсе юнг, привязал веревку к нижним концам мешка, чтобы можно было завязать мешок сверху и нести его за спиной. То же я сделал с мешками Иона и Мошика. Получалось что-то похожее на рюкзаки, и руки были свободны.
Вскоре мама, Ион и Мошик уже были готовы к дороге, а я все еще возился со своим вещмешком. На дно мешка уложил чемоданчик Тютюника, а затем начал утрамбовывать рубашки, куртку, штаны… Но вдруг передо мной возникло измученное лицо забредшей к нам беженки и её неподдельная радость, когда мама дала ей хлеб и кусок сала.
И в моей голове мелькнула тревожная мысль: а что же мы будем есть в дороге?
И, не раздумывая, я вывалил из своего мешка всю запрессованную в него одежду, оставив только чемоданчик Тютюника. Из выброшенного натянул на себя две рубашки, носки, длинные штаны поверх коротких, накинул папин пиджак, а освободившийся мешок набил квадратными кусками сала, хранившегося в ящике с солью, положил две буханки серого хлеба, в углы мешка затолкал несколько луковиц и потащился к выходу.
Из-за множества одежды, мне было дико жарко, но я почему-то был уверен, что поступаю правильно. Я всё время видел перед собой изможденное лицо несчастной голодной беженки. И в ушах звучали её прощальные слова: "Каждый, что бы он ни делал, делает себе"…
Вот и я: сделал себе тяжелый груз и изнываю от явного излишка одёжек…
Мы вышли за калитку и стали ждать, когда за нами приедут. Несколько раз мы с испугом прижимались к ограде дома. Над нашими головами, совсем низко, проносились самолеты с черными крестами.
Солнце склонялось к закату, а за нами так никто и не приехал. Мама была бледная, как тетрадный лист. И вдруг я увидел в толпе беженцев Комиссарова. Хотел окликнуть его, но он и так, пробиваясь сквозь людскую массу, приближался к нам.
Мимо тянулись подводы с ранеными и больными солдатами. Комиссаров попытался остановить одну из этих подвод, но солдаты его не слушали. И тогда он выхватил из кобуры наган, тот самый, который лежал на его столе. Втиснулся в центр потока военных и беженцев, поднял вверх руку с наганом, а другой рукой схватил за узду лошадь одной из армейских подвод. Но возница продолжал хлестать лошадь, и тогда Комисаров выстрелил в воздух.
Подвода остановилась. С сена, находившегося на подводе, приподнялся раненый военный, на его петлицах были три шпалы.
- Чего шумишь, майор? - послышался голос раненого.
- Я военком Цюрупинска, - твердым голосом сказал Комиссаров, - выручайте, товарищ подполковник! Мне позарез нужно эвакуировать семью командира! Из-за разной сволочи раньше не удалось.
Раненый кивнул и велел сопровождавшим его красноармейцам посадить на подводу маму, а мы - трое мальчишек, держась за подводу, двинулись пешком к станции Пролетарка.
От этой станции последние поезда уходили на Восток, вглубь страны.
Наша подвода медленно двигалась по запруженным улицам Алешек. Когда мы проезжали мимо знакомых домов, я увидел моего одноклассника Дуську Бойко, с которыми мы всегда дрались. Он и еще несколько мальчишек стояли около его дома.
Увидев меня, Дуська задрал на лоб кепку, презрительно сплюнул и закричал:
-Тикаетэ, жиды, а то оставайтэсь... Прийшла годына побалакть!..
Я хотел запустить в него камень, но красноармеец, шагавший рядом с подводой, остановил меня и сказал:
- Не пачкайся, малый, со всяким дерьмом! Возвернёмся - тогда и потолкуем....
Я плёлся за подводой и думал о Дуське. Он всегда был таким. И мне припомнился случай, как однажды в школьном дворе я крошил хлеб голубям, но пока они приближались к крошкам, налетали воробьи и быстро расхватывали добычу.
Я пытался отогнать наглецов, но неожиданно услышал голос Дуськи:
- Сизарей надо кормить в голубятне, а тут на свободе налетают наглые " жиды" и все сжирают. Рогаткой бы их, а её училка отняла .
"Ну и гад этот Дуська!" - ругнулся я про себя. - Ничего, мы еще возвернёмся! - прокричал я слова красноармейца. И показал Дуське кулак.
Он тут же ответил: "Ждем!"- и широким жестом пригласил меня в свой сволочной двор.
Что я мог сделать?.. Не бросать же маму, чтобы набить морду этому гаду. А руки так и чесались.
От этой мимолетней встречи осталось гнетущее чувство злости и беспомощности.
Потом, через несколько тяжелых лет, я узнал, что в Алешках, оккупированных фашистами, были расстреляны мои родные: брат моей мамы дядя Фалик, его жена тетя Ента, их дочь Малка, внучка Лизочка, и вместе с ними сестра моего отца тетя Батя, её сын Леня… - всего десять человек. Я был уверен, что среди убийц находился Дуська Бойко и его родители...
Вскоре толпа, движущаяся на шоссе, сжалась как пружина. Уплотнившийся поток беженцев приблизился к железнодорожной станции "Пролетарка".
Я прижался к подводе и вдруг услышал, как лежавший на сене раненый командир спросил маму:
- В каких войсках служит ваш муж?
- Он кавалерист, - сказала мама и тут же спросила: - Вам не приходилось быть под Николаевым и слышать фамилию Шемтов? Там Буденный...
Но раненый не дал маме завершить мучивший её вопрос. Он приподнялся и взволнованно сказал:
- Я как раз оттуда... - он говорил медленно, с трудом:
- Немецкие танки прорвались к местам формирования дивизии... Танки столкнулись с конницей… Я еще не видел такой мясорубки… - простонал раненый. - Бойцы с поднятыми клинками - против стальных машин...
Потом вдруг что-то вспомнил и, страдая от тяжкой боли, сказал: - ...Они были настоящие герои, и их имена надо знать, один из них - конник по фамилии Тютюник... Он воевал в Испании…
Услышав эту фамилию, я замер, превратился в сплошной слух.
- Я видел собственными глазами... и вы, жена командира, должны это запомнить, - говорил, выбиваясь из сил, раненый. - Это произошло на моих глазах...
- На нас двигался вражеский танк... А сабли и карабины против брони танка - ничего не стоят. Вот тогда-то конник Тютюник свершил подвиг.
Он извлек из своей полевой сумки бутылку со спиртом, обернул ее тряпьем, смочил тем же спиртом, поджег и бросил на немецкий танк. Вспыхнуло синее пламя, и из танка повалил густой черный дым - танк загорелся и взорвался....
Метнувший бутылку, кажется, погиб как герой, но я не уверен… Одно знаю: он спас многих. Уважаемая… Запомните имя этого конника: Тютюник... - и раненый обессилено опустился на сено телеги.
К нему поспешила шагавшая рядом сестра милосердия.
Через некоторое время он вновь заговорил, обращаясь к маме: - Возможно, среди уцелевших был и ваш муж, - с сочувствием сказал он.
Мама молчала.
…Потом еще долгих два с половиной года мы ничего не знали об отце.
У станции "Пролетарка" сестра милосердия помогла маме сойти, а телега с раненым командиром продолжила движение со своей колонной.
Вскоре послышался оглушительный рев самолетов. Кто-то закричал: "Воздух!" Люди бросились на землю.
Мама свалила нас троих в одну кучу и, как наседка, прикрыла сверху собой, как будто могла защитить нас от фашистских бомб и пуль.
Самолеты со страшным ревом проносились и проносились над лежащими людьми, слышны были пулеметные очереди, вокруг нас вскипали фонтанчики песка.
Рядом с нами оказался отряд моряков. Они сопровождали капитана первого ранга и тоже ожидали поезда. У капитана были забинтованы голова, левая рука и обе ноги.
Самолеты с черными крестами зашли на второй виток, и моряки разом легли на спину и начали палить залпами из своих трехлинеек по несущимся над нами самолетам.
Наконец, подкатил поезд. Моряки быстро поднялись в вагоны, и в наступившей тишине я услышал молящий голос мамы:
- Товарищ командир! Спасите моих детей! Их отец на фронте!
И тогда капитан первого ранга что-то негромкое сказал стоящим рядом с ним морякам, и те, спрыгнув, быстро забросили нас, как мешки, в вагонную дверь, затем помогли подняться маме.
... Итак, мы в поезде. Над вагонами с ревом все еще проносятся немецкие самолеты, моряки лежат на крышах вагонов, лицом кверху и без конца стреляют из винтовок и пулеметов по низко проносящимся самолетам. По сторонам рвутся бомбы.
У меня опять дрожат коленки. Я пытаюсь скрыть эту предательскую дрожь, но все равно, страшно до жути...
И только часа через два поезд вырывается из зоны бомбардировок и пулеметных обстрелов...
Мы едем на восток.
На одной из станций, кажется "Лозовая", поезд остановился. Раненых переводят в железнодорожный госпиталь, стоящий здесь же на параллельных путях, а нас втискивают в один из вагонов товарного поезда, везущего эвакуированных в город Куйбышев. Остальные поезда направляются на Харьков, Симферополь, Полтаву.
…"Широка страна моя родная"…
В вагоне товарняка мы с трудом находим свободный кусочек пола и, положив головы на дорожные мешки, тут же засыпаем.
Я просыпаюсь первым. Очень хочется писать. Я ищу туалет, но его нигде нет. Везде на полу лежат люди. И вдруг я вижу, как поднимается такой же, как и я, горемыка, подходит к двери теплушки, с трудом отодвигает её и в образовавшийся проем писает.
Встречный ветер мешает, задувает брызги обратно в вагон, но это все же лучше, чем лопнуть во цвете юных лет….
Я стою за ним, и он, закончив, говорит мне: "Потом задвинешь дверь, понял?"
И идет спать.
Я приближаюсь к двери, отодвигаю еще немного и наполовину высовываюсь в образовавшийся проем. Сильный ветер чуть не выдул меня из товарняка. С большим трудом удерживаюсь и пытаюсь удовлетворить свои естественные потребности.
Наконец, я задвигаю тяжелую дверь и обнаруживаю, что все же вышел из этого эпизода с подмоченной репутацией. Ветер явно перестарался. Промокли как нижние короткие штаны, так и верхние длинные. Зато стало легче дышать. Но нет в мире совершенства - сразу же очень захотелось есть...
Ранним утром наш поезд останавливается у какого-то полустанка. Большими корявыми буквами на подвешенной фанере выведено: "КИПЯТОК". Это именно то, что нам нужно.
Я кричу Иону: "Давай котелки! Я принесу горячей воды!" - и на ходу тормозящего поезда выпрыгиваю из вагона. Котелки мы прихватили с собой, как оказалось, не зря. На каждой такой остановке можно было бесплатно набрать котелок горячей воды.
Эвакуированные или беженцы даже шутили: "Смотрите! Еще одна станция "КИПЯТОК".
Вскоре мы привыкли к своему пятачку, обжитому на полу вагона.
У других эвакуированных были чемоданы и даже складные стульчики, но удобнее всех устроились несколько счастливых семейств, занявших боковые дощатые полки-настилы. Они могли спать, свободно вытянув ноги, либо сидеть на этих полках, опустив вниз ноги в вонючих носках.
Мама мучилась. Она не могла долго сидеть на полу, её терзала тяжелая грыжа, но просить у этих счастливцев разрешения, хоть немного отдохнуть на их полках было все равно, что разговаривать с рельсами.
Хозяева были неумолимы и бдительно охраняли свои места. Они не позволяли "чужаку" даже держаться за эти полки. Особенно по-сволочному вел себя подросток по имени Игорь.
Когда на редких остановках военные патрули искали дезертиров или убегавших от призыва в Армию, Игорь говорил, что ему еще нет и шестнадцати, но выглядел он на все двадцать.
Почему-то он особенно окрысился на мою измученную маму. Как будто боялся, что она может забраться на его полку. А может, мучила совесть. Хотя - не уверен, есть ли у таких типов совесть.
Я люто возненавидел этого наглого переростка.
Ничего не оставалось делать, и мы постарались устроить маме достаточно удобное сиденье из наших вещмешков. При этом особенно помог чемоданчик Тютюника.
Вскоре мама достала из своего рюкзака небольшой бумажный сверток и вытащила четыре бутерброда с котлетами. Она их приготовила еще дома. В вагоне запахло чесноком домашних котлет, и теперь уже на нас с завистью поглядывали дети других беженцев. Правда, этот запах совсем недолго витал в вагоне!.. Мы молниеносно проглотили свои бутерброды и запили не успевшим остыть кипятком.
Жить стало веселей. Я даже пошутил: - Теперь понятно, почему наш поезд называют "Пятьсот-веселым", или "телячьим". В таких вагонах перевозили телят на бойню, и они вели себя очень весело и шумно: мычали, брыкались, как сейчас это делаем мы, детеныши рода человеческого.
На станции Кинель, где было сказано, что мы находимся на Куйбышевской железной дороге, скопилось немало "телячьих" поездов, а также несметное количество беженцев. Все ждали своей очереди. Здесь шла первичная сортировка: куда кого направят.
Вскоре подошла наша очередь, и нас вызвали в просторную комнату, где строгие и очень усталые люди распределяли беженцев: кто куда должен ехать. Мама предъявила документ, врученный ей военкомом Комиссаровым. Одна из женщин, взяв этот документ, что-то записала себе в блокнот и, сделав на документе пометку, возвратила его маме.
Следующую станцию ждали с огромным нетерпением. Говорили, что там будут раздавать суп. И все приготовили посуду. Но поезд на этой станции почему-то не остановился. И мы проехали мимо супа.
Нас загнали в какой-то далекий тупик. Беженцы высыпали на железнодорожную насыпь и наблюдали, как по всем свободным путям без конца шли на фронт длиннющие эшелоны с танками, пушками и красноармейцами.
Только к вечеру раздался протяжный паровозный гудок, и наш "Пятьсот-веселый" двинулся в направлении Куйбышева, именно туда, куда у нас было направление, выданное маме Комиссаровым.
В Куйбышеве нам предстояло получить эваколист, помощь в виде зимней одежды и немного продуктов. Однако никто не знал, сколько дней мы будем добираться до Куйбышева. И эта неизвестность очень удручала маму. Её пищевых запасов для наших голодных ртов было от силы еще на день, и не более.
Впереди маячила голодная неизвестность.
И тогда я подсел к маме, развязал свой вещмешок и попросил заглянуть внутрь. Она так и сделала. Потом приподняла мой увесистый мешок, кивнула головой и тихо сказала: "Умница. Ты же моя мама - Эля"…
Я знал - это была её высшая похвала. И я повторил слова той самой беженки, забредшей к нам еще в Алешках, которая в благодарность за помощь пророчески сказала маме: "Каждый себе!.."
Я видел, с каким удовлетворением мама извлекла из моего мешка брикет сала, разделенный не до конца на четыре четверти, осторожно стряхнула в тряпочку соль. Отделила от этого брикета четвертину, разрезала на тонкие пластинки, затем положила их на хлеб и поделила на четверых. Сверху она положила по кружочку очищенного лука.
Что могло быть вкуснее этого!
Я откусывал по крохотному кусочку и, зажмурив глаза, наслаждался ароматом лука и сладостью сала...
Мне показалось, что все в теплушке, глядя на нас, удивленно притихли… Даже вредина Игорь вдруг заулыбался и спросил маму, - не хочет ли она немного отдохнуть на его полке.
Но мама ничего не ответила. Покормив нас, она уселась на горку наших вещмешков и, кажется, впервые за несколько дней спокойно задремала. К ней прижался полусонный Мошик, а мы с Ионом приблизились к отодвинутой двери вагона, и, опираясь на широкую доску, перегораживающую выход, заворожено смотрели на проплывающие мимо поля, заброшенные строения, перелески, проносящиеся встречные поезда.
Не помню, сколько дней мы ехали до Куйбышева. Сильно изменился рельеф местности. Появились холмы, невысокие горы, много леса. Стало прохладнее. Даже холодно. Люди начали мерзнуть. И мы натянули на себя все, что было прихвачено из дому.
Наконец наш эшелон приблизился к большому городу. Вдали были видны огромные заводские трубы, от каждой из них тянулся длинный хвост сизого или темно-бурого дыма. Рядом с трубами возвышались сооружения неизвестного мне назначения.
С большого здания вокзала, мимо которого мы проехали, крупные буквы оповещали, что мы прибыли в город "Куйбышев".
Продвинувшись еще на пару километров, наш поезд остановился. Кругом поблескивали рельсовые пути. Они шли параллельно, сходились, перекрещивались, завивались, затем куда-то исчезали.
Наш состав остановился рядом с таким же длинным товарным поездом, переполненным беженцами.
Вскоре большие станционные репродукторы затрещали, и хриплый голос попросил всех прибывших не выходить из вагонов. И ту же сообщил, что в каждый вагон зайдут служащие, принесут еду и оформят документы для дальнейшего следования.
Ждать пришлось довольно долго. И мы, мальчишки, чтобы немного размяться, спрыгнули на рельсы. То и дело мимо проносились поезда, гудели маневровые паровозы.
Наконец-то и к нашему вагону подошли трое: мужчина и две молодые женщины. Их лица были угрюмы и выглядели они очень усталыми.
По небольшой приставной лесенке все трое поднялись в вагон. Осмотрелись, но не найдя ничего напоминающего стол или табуретку, положили папки с документами, подушечки с печатями и еще что-то на полку вредного Игоря, и сразу начали работать.
Первой они подозвали маму, сидевшую в середине вагона на наших вещмешках. Выслушали ее короткий рассказ - кто мы и откуда. Внимательно просмотрели наши документы и справку, выданную военкомом Комиссаровым.
Потом одна из женщин подошла к маме, посмотрела на нас, осмотрела наши вещмешки и участливо спросила: « И это все?»
Мама кивнула.
Тогда женщина подошла к своим спутникам. Они о чем-то поговорили, и она вновь подошла к нам:
- Мы вам сейчас выпишем эваколист… Однако без зимней одежды и обуви, ехать с тремя детьми в Куйбышев или, тем более, в Бугуруслан рискованно.
Если не возражаете, мы направим вас в более теплые края - в Ташкент.
Я подскочил от радости: "Ташкент - город хлебный!" - выпалил я запомнившуюся фразу.
Женщина устало улыбнулась.
- Там вам укажут точное место, где вы остановитесь. Вы согласны, товарищ Шемтова?
Мама молча кивнула. Вскоре нам вручили эваколист и картонную коробку с водой и едой.
Мама хотела что-то хорошее сказать этой доброй женщине, но та уже разговаривала с другой семьей.
Вскоре мы оказались в настоящем пассажирском поезде с сидениями, столиком и даже полками для лежания. И наш поезд двинулся в направлении "хлебного города".
И вот, через всю страну мы едем из города Куйбышева в сторону Средней Азии. Ошеломляющее впечатление произвела на меня остановка у станции "Аральское море", расположенной недалеко от морского залива. Здесь же находится и город Аральск.
Незнакомые запахи песка и соленой воды, блеск моря и одуряющий аромат копченой рыбы.
На станции наш поезд делает длительную остановку: паровоз заправляется водой и углем.
Из вагонов высыпает муравьиное множество беженцев. И тут же у вагонов возникает базар. У кого есть деньги, ищет все, что можно съесть. У кого нет денег, предлагают свои вещи в обмен на тот же хлеб, лепешки или рыбу.
Продавцы - в основном местные жители: казахи, узбеки, киргизы и немало русских.
С волнением слышу призывы продавцов: "Продаём рыбу копченую, соленую, сушеную!"
Всё, что можно съесть, быстро расхватывается.
Неподалеку от базара, стоят или возлежат большие светло-золотистые верблюды. Терпеливые ослики ждут, пока с них снимут поклажу, а пока неторопливо отмахиваются хвостами от назойливых мух, оводов и шмелей.
После полутемного вагона солнце светит ослепительно ярко. Новая атмосфера будоражит мысли, рождает сказочные фантазии...
И вновь дорога. Поезд продолжает свой неутомимый бег. Но вот и перрон долгожданного Ташкента. Почти у всех на языке одна и та же фраза: "Ташкент - город хлебный", однако мы не успеваем проверить на зуб, насколько эта фраза соответствует действительности. Небольшая остановка и поезд уже снова несется дальше.
Нам сообщают, что наше путешествие продлится еще несколько часов, и по дороге, в поезде, нам выдадут соответствующие документы.
…Согласно выданным нам новым документам, мы пересаживаемся на ферганский поезд, который везет нас к станции Горчаково, а там недалеко находится город Маргилан.
О Маргилане я слышал еще в школе, на уроке географии. Почему-то вспомнились слова нашей географички о том, что еще в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году генерал Скобелев присоединил к России Кокандское ханство. И уже в те далекие годы он отметил Маргилан как стратегически выгодно располагавшийся населенный пункт.
Теперь и я решил, что Скобелев был прав. Иначе, куда бы мы бежали?..
Город граничит с плодородной Ферганской долиной и открывает доступ к богатым урожаям таких субтропических фруктов, как гранаты, инжир, крупные сладкие абрикосы, сочный виноград.
Этот город и был пунктом нашего назначения. Здесь нас погрузили на арбу с двумя огромными колесами, и мы отправились через весь город на его окраину, где находился колхоз "Янги-Турмыш", что по-узбекски означает: "Новая жизнь".
Это и оказалась конечной точкой наших долгих странствий.
Арба, на которой мы ехали, значительно возвышалась над спинами запряженных в неё мулов, и с неё было хорошо видно всё вокруг.
Город почти сплошь одноэтажный. Дома с плоскими крышами. На крышах кучи каких-то веток, наверное, топлива, расстелены платки, на которых сушатся фрукты.
Каждый двор огорожен высоким глиняным "дувалом" - защитной стеной, наверное, против дурного глаза…
Изредка встречаются спешащие куда-то мужчины, они одеты в длинные стеганые халаты. Почти у всех на головах квадратные черные расшитые тюбетейки.
Мое воображение поражает одежда местных женщин. Такое я видел впервые! На многих из них были длинные до пят и, как мне кажется, очень тяжелые мешки, а спереди, наверное, чтобы дышать и видеть дорогу - густая сетка, из конских хвостовых волос…
(Именно из таких волос мы мастерили нехитрые рыбные снасти, петли-сельца, чтобы у самого берега реки Чайки ловить маленьких щучек.)
Позднее я узнал, что эту одежду называют "паранджа".
Я пытаюсь всмотреться в лица местных женщин, но невозможно разглядеть, что там внутри, женщина это, или, может быть… усатый мужчина?
Мне вдруг вспомнилась та короткая стоянка в Ташкенте. Среди бегавших по своим делам эвакуированных, я увидел направлявшуюся к нам женщину, лицо которой заставило мое сердце сильно забиться.
Это, несомненно, была моя незабываемая первая учительница Леся Дмитриевна! Я бросился к ней:
- Леся Дмитриевна!! Но в ответ натолкнулся на недоуменный взгляд незнакомого усталого человека.
Потом она неожиданно улыбнулась и мягко спросила:
- Обознался?
-Да, - кивнул я и почувствовал, что краснею до корней волос.
- Бывает... - тепло, почти породному, сказала она. - Скольких людей разбросала по миру эта проклятая война…
И вновь замкнулась. Зажала подмышкой папку с бумагами и, подойдя к маме, спросила:
- Сколько едоков в семье?
Записала имена и возраст каждого.
- Имеете ли багаж? - продолжала задавать вопросы женщина.
Потом замолчала, посмотрела на измученную маму, окинула быстрым взглядом нас троих и наши вещи; затем, рассуждая вслух, сказала: - Где же мне найти для вас место, чтобы было и не голодно, и не холодно?
И тут же, глядя в глаза маме, твердо произнесла :
- Вашим спасением и спасением ваших детей может быть только колхоз. Согласны ли вы поработать в колхозе?
Что было на душе у мамы, я не знаю, но она несколько раз медленно кивнула головой.
И добрая женщина, похожая на мою первую учительницу Лесю Дмитриевну, вручила нам направление на временное место жительства, в колхоз с непривычным названием "Янги-Турмыш".
Итак, "Янги Турмыш", куда нас занесла судьба, был пригородным колхозом, специализирующимся не столько на выращивании урожайного в этих широтах хлопка, сколько на снабжении города свежими овощами: помидорами, огурцами, морковью, луком, а также дынями и арбузами.
Этот колхоз, как было записано во врученном маме направлении, находился по адресу: Ферганская область, город Маргилан, Урам "Маариф", что, вероятно, означало - сельсовет.
Когда мы прибыли по указанному адресу, я обнаружил, что колхоз ничем не отличался от города Маргилана и был его продолжением.
Такие же одноэтажные домики, такие же дворы, огражденные высоким глиняным дувалом. Однако здесь во дворах (в отличие от городских) были устроены загоны для коз и овец, а также высились стога сена и соломы.
Нашей семье выделили небольшой домик, который все называли кибиткой.
Кибитка слеплена из сухих земляных валков, скрепленных между собой все той же землей. Крыша кибитки плоская. Под крышей всего одна, но большая комната. Пол земляной. Ни стульев, ни кровати, ни стола.
В этой кибитке давно никто не жил, поэтому наше жилище нуждалось не только в заделке щелей и дыр в стенах и крыше, но и в сооружении очага для приготовления пищи.
Вместо кухонной плиты под черным дымоходом, примыкавшим к стене, лежали четыре закопченных кирпича - два справа и два слева. Между кирпичами - кучка серого пепла. Это - наш домашний очаг.
В кибитке, как вы понимаете, всё совмещено: спальня, столовая, кухня, кладовка и туалет. В центре кибитки кучка вещей и наша четвёрка: мама, Ион, я и Мошик.
И мне вспомнилась наша жизнь в еврейском колхозе "Реконструкция"... Просторный двор с беспокойными, гогочущими гусями, шумный курятник, где всегда находился десяток-другой яиц... И лица... Множество лиц: Леся Дмитриевна, Черкус, Тютюник, тетя Песя, Гришка Пятаков, Наталка Семенюк, одноклассник Зюня...
И вдруг, как удар тока, пронизывает дикая тоска по отцу. По его ободряющему призыву: " Не дрейфь, сын, прорвёмся!"
Где ты, дорогой отец?!
И у меня из глаз текут слёзы, мне кажется, что глаза разъедает дым горящего фашистского танка, подожженного бутылками Тютюника. А еще я вижу, как отец и другие конники Буденного бросаются с саблями на ползущие немецкие танки...
Из-под сабель, рубящих танки, летят искры…
Неожиданно я чувствую на своем лице теплую мамину руку. Она вытирает мои слезы и тихо говорит:
- …И это пройдет. Мы еще будем радоваться...
Я прижимаю её руку к лицу и заставляю себя молчать...
" Молчит же мама, терпит… и все время молчит".
К концу дня в кибитку зашел крепкий, пышущий здоровьем узбек. Моё воображение поражают его коричневые сапоги, начищенные до блеска.
- Я Усмон Юсупов, председатель колхоза, - негромко говорит гость, на неплохом русском языке и тут же задает вопрос: - Чем могу помочь, уважаемой мардже?
Измученная долгой дорогой и уставшая от постоянных поисков еды, мама смотрит на нас, сбившихся в кучку, на пустое помещение кибитки и молчит.
Председатель колхоза почесывает затылок.
- Сколько старшему? - спрашивает он.
- Шестнадцать, четырнадцать, двенадцать, - негромко отвечает мама.
Председатель явно доволен. Кивает головой и говорит:
- Детям найдем посильную работу в колхозе. Многие мужчины, как и ваш муж, на фронте. А мальчики - они всё же мужчины.
Каждый из работающих будет получать трудодень и лепешку. Вы тоже - как жена фронтовика.
Еще раз окинул взглядом пустое помещение и ушел.
На следующее утро раздался скрип колес, к нашей кибитке подкатила уже знакомая арба. На ней громоздилась деревянная тахта.
Узбек-возница, как и председатель колхоза, одет в стёганый полосатый халат, подпоясанный шелковым цветным платком, на котором, как почти у всех мужчин, висит нож в разрисованных кожаных ножнах.
На смуглом лице возницы резко выделяются черные усы. Под черной тюбетейкой, расшитой белыми шелковыми нитками, плоская бритая голова.
Увидев мальчишек, он счастливо улыбается и каждому из нас долго трясет руку.
- Ортык-бай, - указывает он на свою волосатую грудь и пытается запомнить наши имена: Ион, Эльазар, Мошик. И вдруг радостно говорит:
- Мошик - значит "Муса!" И мая сосед - Муса!
Маму он назвал, как и председатель колхоза, марджа. Это означало, как я потом узнал, "мадам, дама, женщина".
Ортык-бай развязал канат, крепивший привезенную тахту, и все мы помогли ему занести тахту в кибитку. Вместе с тахтой Ортык-бай принес средней величины закопченный котел: "Можно готовить пилав и шурпа для семья"... - говорит он и опять счастливо улыбается.
Тахта широкая, она заняла больше половины кибитки. Теперь у нас есть на чем сидеть и спать. Нет матраса? Не беда. Я уже знаю, что делать... Недалеко от кибитки в открытом поле я видел стог соломы. Можно будет надергать несколько охапок и постелить на доски тахты.
Так я и сделал. И вдруг оказалось, что я ступил на преступную стезю.
Я не подумал, что эта солома кому-то принадлежит. И меня задержал колхозный объездчик.
Он страшно ругался, обозвал меня "карабчуком", что означало, как я понял воришкой! Даже поднял на меня плеть!
От нагайки объездчика меня выручил председатель колхоза.
Как раз в это время он проезжал верхом на лошади мимо стога соломы и услышал брань объездчика. Быстро сообразил, в чем дело, выругался на узбекском языке, и потому я ничего не понял. По крайней мере, в этот раз.
Затем вытащил из-за пазухи халата блокнот, что-то написал и передал объездчику. Взяв клочок бумаги, объездчик с чувством выполненного долга, слез с лошади, загреб огромную охапку соломы и положил передо мной. Бери, мол, раз председатель разрешил… Но, видя, что я не силах охватить выделенную мне долю, объездчик отвязал от седла веревку, накинул её на солому, связал в тяжелый сноп и взгромоздил мне на плечи.
- Тащи домой! Канатку мне верни!.. - вдогонку добавил он.
Я радостно кивнул и, еле двигаясь, потащил тяжелую соломенную ношу к выделенной нам кибитке.
Так началась колхозная жизнь нашей семьи в далеком Узбекистане.
Хорошей стороной кибитки было то, что в одной из стен находился обширный, как камин, дымоход и дым от очага шел не внутрь кибитки, как у других эвакуированных, но поднимался вверх по примыкавшему к стене дымоходу.
Кастрюля или котел, поставленные на кирпичи, были устойчивы, не опрокидывались, и огонь плавно обтекал их днища.
Но счастье никогда не бывает полным...
В тот день мама варила суп. Это бесценное блюдо она делала из полусырых хлебных лепешек, которые нам выдавали раз в три дня. Одна лепешка на одного человека.
Возможно, в колхозе не хватало топлива, и лепешки лишь снаружи походили на хлеб, внутри же был слой серой, непонятно из чего сделанной массы. Эта масса не поддавалась огню, пылавшему в печных кувшинах колхозной пекарни.
Полученные лепешки мама резала на небольшие квадратики и опускала в котел с кипящей водой. В итоге получалось клейкое, сероватое, но горячее варево.
Сейчас, спустя много лет, спрашиваю себя: был ли этот суп вкусным? Без соли, без картошки, и вообще без чего-либо другого? Был! Ибо это был единственный источник, дававший нам силы жить, работать и… ждать. Да, этот суп был неопределенного цвета, неопределенного содержания, но все же это был Суп! Он не давал сытости, но согревал голодные животы и вселял радость.
Последнее становится особенно понятным, если вспомнить случай, произошедший в тот день во время варки супа.
Я дежурил у котла. Время от времени помешивал кипящее варево, и, не в силах сдержаться, тщательно облизывал ложку
Рядом стояли и истекали слюной два моих голодных брата и, конечно же, последовал вопль Мошика: "Мама! Он все время пробует! Я тоже хочу пробовать!.."
Когда суп, наконец, превратился в нечто похожее на кисель, то есть был готов, мама начала снимать котел с очага… и именно в этот момент сверху, из широченного, давно нечищеного дымохода, прямо в кастрюлю шлепнулся большой, как ворона, ком сажи.
Мама, обжигаясь, быстро сняла котел с кирпичей и принялась вытаскивать черную расползавшуюся массу.
Всю сажу вытащить не удалось. От этого суп приобрел коричневый цвет и стал горьким.
С тех пор на всю жизнь, я запомнил горький вкус сажи. Эта горечь хуже горечи полыни! К тому же - она неприятно пахнет, не то что душистая полевая трава!
Маму очень беспокоило приближение зимы. Дыры и трещины в стенах и крыше кибитки пропускали холод и были плохой защитой от дождя и зимних ветров. И мама решила утеплить наше жилище.
Вместе мы сделали большой замес глины с мелкой соломой и принялись замазывать заметные и незаметные щели.
Мама даже мечтала достать немного белой извести, и побелить кибитку изнутри: "Чтобы дома было светлей". Эта наша очень нелегкая работа сопровождалась едкими замечаниями соседей, таких же как и мы беженцев. Особенно усердствовала мадам Жидовецкая, эвакуированная из самого Киева!
Она специально проходила мимо нашей кибитки и очень громко говорила: "Надо же быть настолько глупым, чтобы не понимать, что к зиме война закончится, и все эвакуированные возвратятся домой… Однако же среди нас, - продолжала она, - имеются упрямые полячки, живущие только своими испорченными интересами и помешанные на чистоте"…
Но мама ничего этого не слышала. Она лишь грустно смотрела на нас, и делала то, что считала нужным, чтобы спасти нас от холода, голода и простудных болезней.
Особый приступ негодования мадам Жидовецкой вызвал очередной поступок мамы - когда она принялась выравнивать земляной пол кибитки.
Но этого было мало, и мама сделала еще один шаг вперед - она решила выровненный пол покрасить… но чем?!
Задолго до восхода солнца, когда мы все еще спали, мимо наших кибиток выгоняли на пастбище стадо коров.
На этот раз мама разбудила меня и Иона даже раньше, чем прошло стадо. Дала в руки старые мусорные ведра и велела следовать за ней.
Вскоре появились первые грязно рыжие коровы. Шли они медленно, неохотно, наверное, как и я, только что проснулись. Их то и дело подгоняли два пастуха. Пастухи не били коров, а только постреливали длинными кнутами-бичами.
Стадо прошло, а мама, вслед за ним, не торопясь, подходила к крупным желтовато-зеленым, еще парящим "караваям", оставленным коровами, голыми руками собирала эти "дары" и бросала их в наши ведра.
По мере того как ведра заполнялись, они становились очень тяжелыми, и тогда мама брала у каждого из нас по ведру и тащила целых два ведра, оставив нам по одному.
Дома нашу необычную добычу мы развели арычной водой и, обмакивая тряпку в эту зеленоватую массу, стали красить пол.
Именно в эти минуты мимо нашей кибитки проходила мадам Жидовецкая. Она очень спешила к пекарне колхоза, чтобы получить свою недопеченную лепешку. Но, увидев меня у входа в кибитку с ведром жидкого коровьего навоза, ужаснулась и даже отскочила. Однако любопытство взяло верх, мадам Жидовецкая подошла и заглянула внутрь кибитки... А, как я уже сказал, мама в это время стояла на коленях и тщательно прокрашивала земляной пол навозной жижей.
О, если бы вы увидели в этот миг лицо мадам Жидовецкой!
На нем отразилось недоумение, которое тут же сменилось подлинным ужасом.
Она, закрыла пальцами нос, отскочила от двери, бормоча:
"Нет, это уже не сумасшествие, это - вершина безумия!"
Бедная мадам Жидовецкая! Если бы она знала, каким красивым и чистым получится пол! Более того, этот желтовато-зеленый, точнее, золотистый пол при лучах солнца озарил невиданным, волшебным светом стены возвращенной к жизни кибитки.
В ней стало теплее, уютнее.
Вскоре наши соседи - эвакуированные начали к нам забегать посмотреть на деяния мамы. Покачивали головами, хвалили, и тоже принялись красить навозом полы своих жилищ.
И лишь мадам Жидовецкая негодовала: "Как может жена капитана Красной Армии! Польская пани, родившаяся в Варшаве, так низко пасть, чтобы копаться в… навозе! Так низко! - подчеркивала она... И непременно, сморщив нос, завершала возгласом: "Фу!!!"
Однако, чтобы завершить воспоминания о навозных делах, я должен рассказать, как эти самые коровьи "караваи", в буквальном смысле этого слова, спасали нам жизнь.
Дело шло к зиме. А, как я уже упоминал, у нас не было ни зимней одежды, ни теплого белья. Правда, нам выдали на каждого по байковому одеялу. Но этого было явно недостаточно, чтобы согреться в зимние сырые холода. И нам разрешили собрать немного топлива на хлопковых полях. Это были корешки, остающиеся после сбора хлопка и срезки сухих хлопковых стеблей.
Вся наша семья вышла "на корешки".
Это очень нелегкий труд - извлекать небольшой корешок из сухой, как камень, земли. Зато зимой будет на чем сварить еду и согреть душу. Конечно, эти корешки сгорают мгновенно, как порох. И все же это лучше, чем ничего. К тому же нам выдали на трудодни по десять снопов таких же сухих стеблей, оставшихся после сбора хлопка.
Когда поля были очищены, около нашей кибитки громоздился довольно значительный стог топлива. Однако мы уже знали, что этого топлива хватит от силы на месяц-полтора. А потом… В правлении колхоза обещали выделить для эвакуированных немного дров и угля. Но выдадут ли? В колхозе не выращивали лес и не добывали уголь...
И мама, опасаясь зимних холодов, решила взять нашу судьбу в свои натруженные руки.
Как-то, после окраски пола в нашей кибитке, мама разбудила меня и Иона, вновь дала нам в руки всё те же ведра и тазик, велела идти с ней. Вскоре мы пристроились к идущему на выпас стаду, и мама вновь принялась сгребать пригоршнями теплые, чуть парящие навозные "караваи" и перекладывать их в наши ведра.
Заполнив все имеющиеся у нас емкости, мама велела отнести это домой и выложить около нашей кибитки на небольшую очищенную от камней и песка площадку. Этот навоз должен был послужить основой топлива для обогрева кибитки сырой и холодной зимой.
Мы сделали пять или шесть ходок, пока окончательно не выбились из сил. Мама сама еле держалась на ногах.
Сейчас, спустя многие годы, я с удивлением и болью в душе думаю, откуда у неё брались силы и эта сверхчеловеческая стойкость. Ведь крепким здоровьем она никогда не отличалась.
И только теперь, будучи взрослым, и имея свою семью, я понимаю, какая безграничная любовь жила в этой крайне истощенной, самоотверженной женщине.
Я преклоняю перед тобой колени, моя дорогая, моя незабвенная мама!
Однажды под вечер, когда обычно пригоняли стадо, мама и Ион вышли далеко в поле, чтобы там встретить коров и успеть собрать их спасительные "дары". Оказалось, что теперь за этим источником тепла и самой жизни охотились все эвакуированные.
Дома остались только я и Мошик. Неожиданно к нам пришел Ортык-бай. Он прикатил тачку с настоящим углем. Радостная встреча. Мы даже обнялись. И вдруг вижу, что Ортык-бай как-то странно смотрит на меня и говорит:
- Мама нэт в кибитка ?
- Нет, - ответил я, - она со старшим братом пошли в поле за навозом...
- Очень хароша! - почему-то обрадовался Ортык-бай и тут же скомандовал:
- Эльазар! Разгружай угля! - и опять вопрос: - А где маленький брат Муса?
- Вон видишь, на тахте? Он спит ...
- Якши! Очень хароша! - сказал Ортык-бай. - Ты разгружай, разгружай угля! А я устал и немного отдохну с твоим маленьким братом.
Он тут же сбросил свой полосатый халат и улегся рядом с Мошиком. Начал его гладить и обнимать.
Я посмотрел на Ортык-бая и не узнал его. Глаза стали какими-то страшными, покраснели. Он тяжело дышал и начал стаскивать с брата трусы.
Наконец я понял, что он собирается делать и рассмеялся от всей души.
- Ортык-бай! - закричал я. - Он мальчик! Он же не девочка, не кзынка! - объясняю ему по-узбекски во всю силу своих легких. - Понимаешь!! Он - мальчик!!!
Впрочем, решаю я, он и сам сейчас увидит, когда стащит с Мошика трусы и отстанет. Но Ортык-бай не слышит меня, он ничего не видит, и, кажется, ничего не понимает, что я говорю.
И тогда я пытаюсь силой оттащить его от брата, но он как сумасшедший, больно ударяет меня ногой в лицо. Снимает свои штаны и пытается перевернуть брата спиной вверх.
Возможно, услышав мои крики, в нашу кибитку врывается какой-то мужчина и со всей силы опускает плеть на голую спину Ортык-бая.
Тот мгновенно срывается с тахты, хватает халат и убегает.
Теперь я узнаю нашего спасителя - это объездчик, который меня чуть не огрел этой самой плетью, когда я хотел утащить немного колхозной соломы.
Объездчик аккуратно сложил и запихнул за кушак свою плеть. Набросил на Мошика байковое одеяло, оказавшееся на полу. А Мошик, не успев ничего понять, опять заснул сном праведника.
Объездчик, между тем, подошел к тачке с углем, которую я не успел разгрузить, и одним движением опрокинул её около очага. Покатил тачку на улицу.
У самой двери он остановился и сказал:
- Больше никогда не пускай в кибитку Ортык-бая. Уголь – хорошо! Ортык-бай - плохо! Он "жопшиник "...
Понимаешь? И скажи об этом твоя мама.
Тачку объездчик бросил на улице. Сел на свою рыжую лошадь и умчался по каким-то делам.
Кода я все это рассказал маме и Ионе, мама положила около порога топор и сказала, что Ортык-бай больше никогда не появится в нашем доме.
И вновь жизнь пошла, как и прежде заполненная новыми заботами и новыми трудностями.
Некоторое облегчение наступило, когда Иона приняли на работу в ткацкую артель. Я не раз бывал с ним в его цехе.
Ткачи стояли у станков. Станки были деревянные. Вдоль каждого станка натянута основа, то есть множество бесконечных нитей, а поперек станка, перед ткачом, все время бегал "челнок" с такой же нитью. В одну сторону - нить, в другую - еще одна нить.
А чтобы челнок бегал, ткач должен дергать за веревку. Второй рукой с помощью ремизы он прижимает челночные нити друг к другу. День работы и несколько метров шелкового полотна готовы.
Что и говорить - работа тяжелая, но зато дают обед и в конце месяца - зарплату. Ион даже побывал в кино. И там познакомился с Ханой - очень симпатичной, правда, невысокой девушкой. Она была ниже брата на целую голову. Но, кажется, это им не мешало.
Иногда Ион приходил только под утро. Сдвигал меня в сторону, потому, что я люблю спать, раскинувшись на всю тахту.
Должен сознаться, когда меня будят, не знаю почему, но я очень сержусь и могу дать по морде… но не старшему брату. Меня разбирает любопытство: что они с Ханой делали почти до самого утра?
С трудом отодвигаюсь и, когда он ложится, тихо спрашиваю:
- Ну, как было? Что вы делали всю ночь?.. Кино кончилось в одиннадцать?..
Этот мой вопрос таит в себе хитрость, ведь я хорошо знаю, что сегодня кинопередвижка вовсе не приезжала, и никакого "кина" не было; но он только молчит и улыбается.
Я повторяю вопрос. И тогда, чтобы отделаться от меня, он говорит:
- Ты этого не поймешь, спи!
Это сверх моего терпения и я вспыхиваю:
-Тоже мне нашелся знаток! Да я... - но в эту минуту приподнимается мама:
- Хватит! - говорит она сердитым голосом. - Не мешайте друг другу спать!
И ждет, пока мы опустим наши разгоряченные головы на набитые соломой подушки. Засыпаем мы мгновенно.
А вообще-то мы с Ионом очень дружны. Мы с ним много читаем и любим говорить о книгах. Особенно о "Трех мушкетерах" Александра Дюма или об "Оводе" Этель Лилиан Войнич.
Изредка Ион посвящает меня в свои любовные дела.
Ему уже давно перевалило за семнадцать!
Приходит повестка из военкомата, и вскоре Ион уходит в армию. Его направляют в Харьковское пехотное училище, которое располагалось в городе Намангане.
Военком Сокол сказал маме по секрету, чтобы она не волновалась, что на фронт он попадет только через шесть месяцев, лишь по окончании училища, конечно… если ничего экстраординарного на фронте не произойдет.
Уход в армию старшего брата еще больше осложнил нашу жизнь. Все же зарплата, которую он получал в ткацкой артели, была важной материальной поддержкой.
Зная это, перед самым уходом в армию он сказал, что как только ему присвоят офицерское звание, он сразу же вышлет нам свой командирский аттестат, и мы будем регулярно получать его воинскую зарплату.
А пока мы боролись за то, чтобы выжить в наступившую голодную и холодную зиму.
Теперь нас оставалось трое. Несмотря на множество писем в Москву, мы все еще ничего не знали об отце.
Мы продолжали жить в нашей кибитке, получали полусырые лепешки и собирали навоз для изготовления топливных кирпичей.
Когда на площадке около дома набиралась хоть небольшая горка коровьих "караваев", мама посылала нас собирать сухую траву, опавшие листья, небольшие ветки - все это она бросала в кучу навоза, и мы босиком перемешивали обогащенный навоз, пока не получалось густое навозное тесто. И тогда мама отделяла от этого замеса куски, формовала валки и лепила их на волнистую стену кибитки, обращенную к солнцу.
Когда валки высыхали, они легко отпадали, и мы складывали их в углу нашей кибитки, чтобы они не отсырели от густо выпадавшей росы, или от случавшихся зимних дождей.
Конечно же, в доме было немного неуютно, приходилось есть и спать рядом со штабелем навозных лепешек. И у меня появилась важная инженерная мысль: насобирать плоских камней и отгородить угол с навозным топливом от остальной части кибитки.
Начались поиски таких камней, но кругом был только песок и сухая серая земля...
С наступлением холодов мама укладывала в очаг и поджигала несколько сухих навозных валков, они горели без копоти и дыма, почти как настоящий уголь!
К нам начали приходить соседи, чтобы погреться. И все восхищались, как мы устроились. Даже однажды пришла, кто бы вы думали?.. Сама мадам Жидовецкая!
Она молча присела у нашего "камина", протянула к огню руки а потом сказала: "Простите меня, мадам Шемтова! Вы не просто хорошая хозяйка, вы - настоящая "берия", - произнесла она на языке идиш, что, видимо, означало - прекрасная хозяйка. - К тому же вы - умница, а я ... гордая дура, - голос её сорвался, она заплакала. - Я растеряла весь свой ум. Извините, ради Бога, извините меня"… - причитала она.
Эти горькие признания мадам Жидовецкой не остались без последствий. Она присоединилась к собирателям коровьих "караваев".
В эти дни в поисках топлива и плоских камней я обнаружил на старом узбекском кладбище провалившиеся могилы. Детское любопытство оказалось сильнее страха, и я начал раскапывать одно из таких захоронений. А вдруг там клад?!
Очень испугался, когда увидел желтоватый скелет и широкую белозубую улыбку усопшего. Скелет сидел в уютной подземной комнатке, сложенной из… обожженных кирпичей.
Когда страх немного прошел, я решил, что усопшему безразлично, как он будет отдыхать, а я смогу из этих кирпичей в нашей кибитке построить небольшую плиту чтобы обогревать живых, а также отгородить угол, для хранения сухих навозных валков.
И, глядя на улыбавшийся череп, я почувствовал прилив сил. Я даже сказал ему: "Прости меня далекий и незнакомый человек... При помощи твоих кирпичей я спасу маму и братишку от холода и голода! На плите мама сможет варить суп, допекать полусырые лепешки и согревать кибитку".
Всё время я просил прощения у усопшего и, со слезами на глазах, стараясь не коснуться скелета, извлекал кирпич за кирпичом из его сокровищницы.
Я взял ровно столько, сколько нужно было для плиты в нашей кибитке и для невысокой загородки вокруг зимнего запаса навозных валков.
Мертвый дарил живым тепло, а значит, и жизнь, и вечное ему за это спасибо!
Первая настоящая работа в колхозе, которая выпала на мою долю - рытьё арыков для посадки помидоров.
Надо знать: арык для помидоров - это не просто канавка для орошения, это особая извилистая канавка. Она делается в виде полуовалов, огибающих выступы рыхлой земли, что позволяет воде доставать каждый корешок помидорного саженца.
Месяца через два или три плоды созреют, а пока, стоя по колено в грязи, мы втыкаем по краю этих овальных выступов будущие кусты помидоров.
Эти веточки излучают аромат свежих помидоров, но они вовсе не съедобны, они лишь предательски и зазывно пахнут настоящими сладкими помидорами, красными и мясистыми…
Кроме полукруглых арыков, мы делаем также и прямые. Затем, под руководством бригадира, вдоль берега этих арыков погружаем в землю огуречные зерна. Тонкие, сухие. Они тоже не съедобные. Их невозможно грызть, как, например, семечки подсолнухов...
Огуречные семена по форме похожи на тыквенные семечки, но очень мелкие. Их извлекают из больших переспелых, не пригодных для еды, огурцов.
По такому же принципу, как семена огурцов, высаживаем семена моркови. Их тоже нельзя есть.
Будем терпеливо ожидать те счастливые времена, когда всё это богатство: морковь, огурцы и помидоры созреют и принесут долгожданные плоды, а нас, если повезет, направят на их уборку.
Уж тогда-то можно будет вволю, хотя и незаметно, "напробоваться", а пока что… без всякого перерыва хочется есть...
Вдоль старых арыков, от которых вода отводится к новым посадкам, растет сочный чертополох, и жалящая, как змея, крапива. От неё мы держимся подальше.
Однако оказывается, не всякая опасность по-настоящему опасна. Нашим мальчишеским бригадиром в колхозе была тётка Анастасия. Её семью когда-то раскулачили и выслали в Среднюю Азию. Наверно поэтому тетка Анастасия была всегда, как нам казалось, злая, как ведьма.
Мы, мальчишки, так и предупреждали друг друга: "Полундра! Приближается ведьма!"
Она была молчалива, а может, как и мы, голодна. Мы никогда не видели, чтобы она при нас ела лепешку или яблоко, как это делали многие колхозники.
Как-то, наблюдая за нами, везде и во всем выискивающими еду, она сказала:
- Ребятки! Вы кропивки - не боитесь... Она только с виду злая, а на самом деле - спасительница. Нарежете серпом стеблей, которые помоложе, и отнесите матери. Она сварит суп. От жира не сбеситесь, но живы будете...
Я лично так и сделал... Мама хорошо промыла в арычной воде принесенную мной охапку молодой крапивы и положила в котел.
Суп действительно, оказался съедобным, почти как из полусырых колхозных лепешек, но ароматнее. Потом я делал так не раз…
А еще мне запомнилось, как мама стирала нашу одежду и бельё. Она терла их на ребристой железной доске, поставленной в бадью с теплой водой. Потом выкручивала и развешивала на веревке. А "гладила" все постиранное тоже необычным способом - может быть, так делали в Польше. Она наматывала его на цилиндрическую "качалку"- валёк и проворачивала на столе при помощи "рубеля" - узкого ребристого бревна с рукояткой.
Наконец, окончилась зима, и вновь вовсю развернулись колхозные работы.
До того, как созреют овощи и фрукты, почти все, кто не отощал окончательно от голода и мог двигаться, должен был собирать хлопок.
Комья белой ваты, с косточками семян внутри, перекочевывали из сухих осыпавшихся кустов в наши наплечные корзины или мешки. Это была тяжелая работа, ныли израненные руки, болела спина, к тому же нещадно палило солнце.
Зато какая радость была, когда раздавались удары молотка по висящему куску рельса, оповещавшие о перерыве на обед, и мы, как угорелые, бросались к колхозному стану. Здесь нашим божеством была пожилая женщина - тетя Нюра, чью семью, как и семью тетки Анастасии, выслали в эти края, потому что они были кулаками.
Теперь тетя Нюра стояла у большого котла, под которым горел огонь, и наливала каждому из нас положенную поварешку горячего и, как казалось нам, самого вкусного в мире супа, хотя, честно говоря, мы, с этой точки зрения, суп всего мира не проверяли.
Конечно же, все торопились. Каждый старался как можно скорее подставить свой котелок или керамическую кружку и получить вожделенную пищу. Возникала толкучка, неразбериха, чуть ли не драка. И тогда вмешивался колхозный агроном - бывший танкист, успевший потерять на фронте руку.
Агроном был немногословным. Единственное, что мы слышали от него, это окрик:
- Эй вы, на раздаче! Соблюдать порядок!
- На какой там "раздаче"?! - ворчала тетя Нюра. - Не на раздаче , мил человек, а на расхвате! Ишь, как расхватывают, а раздавать-то не больно уж и много...
И, выгребая остатки пищи, торопливо подливала в наши вновь протянутые котелки.
КОЛХОЗНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Урожай в тех местах собирают дважды в год - весной и осенью.
В этом году, ближе к осени, когда созрел перец, произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь.
Трудовое население колхоза увеличилось. На сборку урожая перца вышли двое новых мужчин. Оба из Польши. Оба были в польской армии. Однако им не пришлось воевать. Сокрушительные бомбовые удары с воздуха и стремительное движение немецких дивизий привело к быстрому разгрому польской армии, и многие, спасаясь от фашистов, бежали на Восток, перешли польско-советскую границу и оказались в СССР.
Здесь их проверили (не шпионы ли они) и отправили в Сибирь, где было много места, и всегда нужны дешевые рабочие руки.
А потом, года через два, некоторым из них было разрешено выехать из Сибири в Среднюю Азию. В итоге двое из польских беженцев попали в колхоз "Янги-Турмыш". Один из них - небольшой, щуплый, с ярко выраженной еврейской внешностью - Флянц. И второй - рослый и могучий поляк - Иван Ряпушка.
Они всегда были вместе в своем крохотном польском государстве. Флянц был "министром иностранных дел" и "министром финансов" одновременно. Ряпушка без совета Флянца не предпринимал ничего. Флянц довольно быстро овладел простейшими узбекскими фразами и говорил за себя и за Ряпушку. Ряпушка был их силовым центром.
Они сторонились эвакуированных, особенно мадам Жидовецкой, которая, встречая их, громко говорила:
- Наши мужья на фронте бьют немцев, а эти здоровенные мужики околачиваются в глубоком тылу. Что они здесь делают?. - и сама же с негодованием отвечала: - Потому что потеряли совесть еще в Польше! Убежали от проклятых немцев!..
- Цо пани хце?- тревожно спрашивал Ряпушка, растерянно глядя на Флянца, и тот коротко отвечал: - Ниц! - и оба замолкали.
Они терпеливо сносили эти и многие другие упреки.
Мне же, наоборот, эти смирные и малоразговорчивые люди были симпатичны.
Они были из тех же мест, что и мама. Я знал десятка два польских слов, которые слышал от неё. И однажды решил приветствовать на их родном языке.
"День добжый, пановье!" - сказал я.
Но они сделали вид, что не слышат.
И тогда я повторил свое приветствие и сказал, что моя мама тоже из Польши, и я знаю несколько польских слов.
Ряпушка посмотрел на меня с явным подозрением, а Флянц кажется, обрадовался. Он положил руку на мое плечо и тихо спросил:
- Откуда мамка из Польши?
- Из Варшавы. Она жила на улице Маршалковской.
На их лицах отразилось удивление.
- Земляк во втором поколении из Посполиты Польской! - сказал Флянц, обращаясь к Ряпушке, и тут же спросил:
- Когда твоя мамка убыла из Варшавы?
-Давно... Их выслали еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году, - ответил я, - она рассказывала, о каком-то генерале Скалоне ... Им объявили, что все евреи - германские шпионы, что они прячут в своих бородах телефоны и сообщают немцам военные тайны.
Эти люди из непонятной и далекой Польши интересовали меня все больше и больше.
Хотя Ряпушка, как мне показалось, многое понимал, из того, что я рассказал Флянцу, но, тем не менее, почему-то все время переспрашивал Флянца.
- Цо росповедал млодый чловек? - торопил его Ряпушка.
И Флянц тут же переводил.
Затем оба многозначительно переглядывались.
- Да... - сказал Флянц. - И в те далекие годы, как и в наши дни, жидам досталось больше горя, чем всем другим людям... Так он и сказал, "жидам", делая ударение на букву "и".
- Зачем же вы оскорбляете евреев? - вспылил я. Жид - это оскорбление, ругательство!
И тогда смутившийся Флянц начал объяснять, что "жидове"- это по-польски, а в Польше это слово вовсе не ругательство.
- Я - Мойше Флянц - жид. А на русской промове: "Я, Мойше Флянц - еврей".
Сбор созревшего перца - нелегкая работа. Красные высохшие стручки нередко ломались, и тогда острый, как огонь, перечный дух слезил глаза, рвал ноздри, проникал в легкие.
Чтобы успешно работать, рот и нос прикрывали смоченными тряпками, это немного помогало, но сквозь мокрые тряпки трудно было дышать, и люди их сбрасывали.
Зато за каждые десять ведер собранного перца полагался один трудодень. А к трудодню полагалась хлебная лепешка, в которой было, как говорила колхозная повариха тетя Нюра, все, кроме пшеничной муки.
И почему-то… То ли у пекарей не хватало топлива, то ли огонь был не в силах насквозь пропечь тяжелое серое тесто, но, в любом случае, внутри лепешки были сырыми, и мама говорила, что это даже хорошо.
Она, как я уже рассказывал, не давала нам есть эти лепешки, резала их на небольшие квадратики и варила из них суп.
С большим трудом собрав по десять ведер перца, мы, мальчишки, убегали с поля в тень, ожидая прихода табельщика. Приходил молодой узбек, по имени Юсуф, он придирчиво осматривал кучи собранного перца, перемерял и приказывал переносить ведро за ведром на центральную площадку. Там он снова пересчитывал ведра и записывал в журнале напротив твоего имени трудодень.
Положенный за трудодень заработок, выдавался в конце месяца либо сезона, зато лепешка выдавалась каждое утро. Если кому-то удавалось собрать двадцать ведер - соответственно ему записывались два трудодня и, что было особенно важным, он получал две вожделенные лепешки.
Особенно старались женщины, у которых были маленькие дети, и те еще не могли работать в поле. Эти совсем еще нестарые женщины были главной рабочей силой на уборке урожая вообще и перца в частности.
Нестерпимо палило среднеазиатское солнце, но эти труженицы, непрерывно кашляя, чихая и сморкаясь, ухитрялись собрать по три и даже по четыре десятка ведер, что вызывало у табельщика злобное недовольство.
Ведь он был вынужден выписывать им больше одной или двух лепешек!
- Зачем вам столько? - возмущался он, - Дэньги нужен?! - и грязно ругался.
В этом он был прав: лепешку действительно можно было продать на базаре за несколько сотен обесценившихся рублей, и женщины, время от времени, вынуждены были продавать заработанный с таким трудом кусок хлеба, чтобы тут же на эти деньги купить щепотку рыжей грязной соли, без которой дети отказывались от еды.
Особое недовольство у табельщика вызывали иностранцы Флянц и Ряпушка. Крепкие, хотя и тощие, как сухие стебли хлопка, они ухитрялись собирать по семь и даже восемь десятков ведер в день.
Обсчитывать их, как он это проделывал с эвакуированными женщинами, Юсуф почему-то побаивался. Они получали то, что зарабатывали и свои лепешки тут же продавали, а деньги собирали для каких-то своих, только им известных целей.
Однажды выдался не очень жаркий день. Флянц и Ряпушка работали, не останавливаясь ни на минуту. Они собрали кучу перца, насчитав ровно сто ведер. И, когда к вечеру пришел табельщик, он опешил.
- Принимай работу! Пан табельщик! - пробасил Ряпушка, - здесь ровно сто полных ведер перца!
Табельщик с явным подозрением обошел огромную кучу перца и, не говори ни слова, записал сорок ведер.
Возмущенный Ряпушка схватил табельщика за грудки и, как щенка, приподнял над землей, но на помощь Юсуфу подскочил Флянц и начал успокаивать товарища.
- Пожалуйста, пан табельщик! - умолял Флянц. Мы не обманщики! Дуже прошем! Давайте пересчитаем наш перец и схватился за ведро.
Но Юсуф, сделав свое гнусное дело, слегка отряхнул халат и пошел к другим сборщикам. И тогда Флянц забрался на вершину возведенного ими перечного холма, снял свою поношенную кепку со сломанным козырьком, подбросил её вверх, и провозгласил:
- Вот вам и справедливость!
Затем дурным голосом прокукарекал:
"Да здравствует блядство!"
Ко времени описываемых событий я уже неплохо владел узбекским языком и часто переводил Юсуфу просьбы и вопросы эвакуированных.
- Что он сказал? - обратился ко мне Юсуф, с интонацией явно не предвещавшей ничего хорошего для Ряпушки и Флянца. И добавил: - Мы за ними следим… они не советский человек, - и чуть тише: - твой отец на фронте, и ты должен нам помогать... Понимаешь?!
Услышав подобное, я растерялся, не знал что делать. К тому же затруднялся в переводе на узбекский язык сказанное Флянцем… Но я быстро нашелся и произнес:
- Флянц сказал, что они чересчур перестарались в своей работе...
Юсуф подозрительно посмотрел на меня - слишком длинным был мой перевод по сравнению с тем, что сказал Флянц… Но потом кивнул:
- Якши! Я и так записал им четыре трудодня за один день... такого в наш колхоз никогда не был за всю его история! - и зашагал дальше.
Мне до слез было жаль Ряпушку и Флянца, они очень много работали, но, вместо благодарности, Юсуф их обсчитал и, к тому же, за ними, оказывается… идет слежка!
Возмущенный всем этим, я посчитал, что надо пригласить Ряпушку и Флянца зайти к нам домой, чтобы познакомить с мамой.
Поздним вечером, вернувшись с работы, я рассказал об этом маме. Она немного помолчала, а потом сказала:
- Ты решил правильно, сын! Пусть приходят.
Теперь, получив от мамы поддержку, я начал незаметно опекать этих молчаливых и без устали работавших людей.
После уборки перца, бригаду направили на подчистку остатков хлопка.
Именно здесь я увидел, как Флянц, присев среди высоких стеблей, что-то записывал в крохотную книжечку.
Флянца почти не было видно.
В это время показались Юсуф и землемер. Заметив их издалека, я нарочно громко закричал:
- Ассалям алейкум, уважаемый Юсуф!
Я сделал это, не раздумывая, чтобы предупредить Флянца об их приближении.
- Алейкум ассалям! - важно ответил Юсуф, и я
заметил, как Флянц быстро спрятал в карман свою книжечку.
Юсуф и землемер что-то вымеряли деревянным двухметровым аршином в виде циркуля. Они немного походили среди сборщиков хлопка и двинулись дальше, ко второму звену.
В обеденный перерыв ко мне подошел Флянц. Сидя рядом, мы ели положенную всем работающим в поле шурпу и жевали полусырые лепешки.
Флянц тихо, но очень серьезно сказал:
- Денькую за подмогу. У меня могли забрать мой "ежедневник", - и он показал мне небольшую книжечку, заполненную крохотными буквами на непонятном мне языке. \
- Я пишу историю нашей жизни... Если интересно, то могу немного росповедать.
- Очень интересно! - признался я.
- Будешь смеяться, - начал свой рассказ Флянц, - но моя специальность - не колхозник, а историк, точнее - мировая история. Я служил профессором в большом учебном заведении в Варшаве. Потом меня позвали в Войско Польске.
Когда к Варшаве приблизились германцы, они с большой силой бомбили город. Моя семья - мамка и две сестры погибли, а мне суждено было бежать.
По дороге мы встретились с Ряпушкой, он был, как и я, польский жолнер, то есть солдат, и когда не стало польской армии, мы решили не сдаваться бошам в плен и бежали на восток, в сторону России. Вдвоем было легче выжить.
И теперь, вот уже два года как судьба бросает нас по большой земле этой страны… Здесь нелегко, - тихо продолжал Флянц, - но жидов не убивают только за то, что они жиды!
- А можно называть нас не жидами, как говорят в Польше, а евреями, как говорят у нас? - спросил я, и тут же добавил: - "жид" у нас ругательное слово: это и презрение, и оскорбление, и ненависть...
И задал вопрос:
- А в Польше много евреев?
В ответ Флянц улыбнулся:
- Я вижу, что младый пан, или, как говорят здесь "молодой товарищ", различает важные оттенки в простых и разом с этим непростых понятиях. Браво!
О польских евреях можно сказать многое. Твой покорный слуга когда-то написал на эту тему большой реферат...
Я сразу хотел спросить, что такое "реферат", но решил подождать, пока Флянц тщательно вытер кусочком лепешки остатки шурпы на дне алюминиевой миски и поставил миску на землю.
Взглянув на меня и, как бы входя в роль педагога, он сказал:
- Итак, что такое "реферат"? Если коротко - это публичный доклад, который я делал на конгрессе еврейских ученых в Варшаве.
Флянц помолчал, а потом, сделал вид, что поправляет на шее бабочку, и с улыбкой сказал: - Тогда это был совсем другой Флянц, а вовсе не "доходяга", который сейчас перед тобой...
В эту минуту оба заметили приближавшегося табельщика. Первым вскочил Флянц.
- Поговорим в другой раз - торопливо сказал он и пошел вдоль тесного промежутка между рядами хлопковых стеблей.
Поднялся и я. Занял свой ряд и тоже пошел вдоль поля. Мы извлекали из оставшихся коробочек белые комки созревшего хлопка и забрасывали их в висящие на плече мешки.
Я сгорал от нетерпения услышать реферат Флянца. И, как только с заходом солнца завершился рабочий день, я пристроился к Флянцу и Ряпушке и мы вместе отправились домой.
- Иван… - и Флянц кивнул в сторону Ряпушки. - Хотя он и поляк, при этом он сделал ударение на "о" - но учился в еврейской школе. Хорошо знает идиш.
Во многих польских деревнях земледельцами были не только поляки, но и евреи, - объяснил Флянц. - Жили дружно. Это продолжалось до тех пор, пока в Германии не взошли к власти "наци"...
- И много веков жили в дружбе! - поддержал разговор Ряпушка.
- Землю вместе пахали, и всякими ремёслами занимались,
вели торговлю...
- Евреи прибыли в Польшу еще в девятом веке, - продолжал Флянц, явно играя роль лектора, - но массовое поселение евреев в Польше произошло в средние века, когда почти во всей Европе усилилось гонение на нашего брата… И гонения эти были непрерывными.
…В тысяча девяносто шестом году начался первый крестовый поход. Ты слышал что-либо о крестовых походах? - задал он вопрос, но не стал ждать ответа.
- Таких походов было несколько: и в тысяча сто сорок втором году, и в тысяча сто восемьдесят девятом, - без напряжения вспоминал "лектор".
- В эти возвышенные моменты, - с явной иронией говорил
Флянц, - храбрые рыцари, закованные в броню, нещадно грабили и убивали… кого, как вы понимаете?..
- Жидов… - выдохнул Ряпушка.
- Нет, - поправил его Флянц.- Мы, шановный пан Ряпушка, сегодня не в Посполите Польской, а в СССР и правильно сказал наш младый друг: надо говорить не "жидов", а "евреев", как здесь принято, хотя от уточнения термина - убийства не уменьшились...
Несчастных грабили и сжигали не только в Германии, но и в Богемии, Чехии, Венгрии и даже во Франции. И большой поток несчастных двинулся на земли Польши... Польша и стала заезжим двором гонимых. Здесь они могли найти убежище от преследований.
- Возможно, шановный Эльазар, среди этих беженцев были и твои предки, и предки моих родителей, - очень серьезно сказал Флянц. - Из Польши многие двигались в Литву, Украину, в Россию, как, например, в наши времена, мы с Ряпушкой...
Я даже вздрогнул от такого сравнения. Но вынужден был признать, что Флянц был прав. Мой отец Берл Шемтов, как-то говорил, что его предки, то есть мои прадедушки и прабабушки, были из Чехии, а родители мамы - из Польши...
Прежде я никогда не задумывался, о своих предках. Кого это интересовало?..
Я жил в новую эпоху, во времена строительства коммунизма, те есть счастливой жизни для всего прогрессивного человечества, и следовало "стряхнуть пыль истории со своих ног"... И я её старательно стряхнул...
И вдруг… эта лекция голодного, измученного, заросшего рыжей щетиной польского профессора Флянца...
Я понимал, что и у Флянца когда-то были дедушка и бабушка. "А кто был до них, кто были их родители? И родители родителей? Куда и откуда они бежали?"
У меня не было никакого понятия. Даже не возникал подобный вопрос... И вдруг...
- Уже тысячу лет тому назад, - продолжал между тем Флянц, - по всей Польше было разбросано множество еврейских селений...
Но, истины ради, замечу, что Польша, хотя и спасала евреев, все же считала их "убийцами Христовыми".
Конечно же, она спасала их не ради благородства, они были нужны Польше! И даже очень нужны!
В те времена, - с удовольствием играя роль лектора, рассказывал Флянц, - польское хозяйство бурно развивалось. Шло большое строительство, требовались знающие люди. И тут появляется много хороших ремесленников: кузнецов, шорников, швейников, паяльщиков, а также торговцев, опытных в кредитах, и, к тому же, имеющих связи с разными государствами того времени...
Флянц сделал длительную паузу. Потом неожиданно спросил:
- Ты не пробовал собирать коллекцию монет?
- Нет, - немного растерянно ответил я.
- А между тем,- продолжил свою лекцию профессор Флянц, - именно вновь прибывшие еврейские беженцы стали зачинателями монетного дела в Польше. Это было в двенадцатом и тринадцатом столетьях...
Я лично видел эти серебряные монеты, - с воодушевлением сказал Флянц, - на них были вычеканены имена польских королей и князей на языке, имя которому - иврит... Ты когда-нибудь слышал о таком языке?
Я даже не успел среагировать, а Флянц, как всегда, не ожидая ответа, продолжил:
- То были "полезные евреи"... - с грустной улыбкой сказал он и многозначительно взглянул на Ряпушку.
- Может быть именно поэтому... - лектор чуть задумался и поднял кверху указательный палец, - краковский герцог Мечислав Старый в тысяча сто тринадцатом году запретил всякое насилие против евреев... И такое было! - подчеркнул профессор Флянц.
- Как-то мне довелось узнать из "Польских хроник", - вспоминал он, - что этот герцог даже ввел наказания для тех поляков, кто совершал подобное насилие.
К тринадцатому веку Польша превратилась в крупнейший в Европе еврейский центр...
Да... Когда-то и такое было… - вновь задумчиво сказал Флянц.
Тем временем, мужчины приблизились к кибитке Шемтовых и остановились. Флянц протянул мне руку и шутливо сказал:
- Изложение реферата продолжим на следующем занятии.
Приветствуй от нашего имени твою уважаемую мамку!
И я, неожиданно для самого себя, сказал:
- Приходите к нам в гости. Мама будет рада!
Флянц и Ряпушка переглянулись, и Флянц тут же ответил:
- Конечно же прибудем! Почему нет? Сердечно денькуем! - и он церемонно склонил голову.
С того дня прошло несколько недель. И каждый раз, когда колхозники шли домой после работы, Флянц, к моей радости, продолжал свой " реферат".
- Мой родной брат жил в Германии, - рассказывал Флянц, - он был... как сказать... немножечко капиталистом. У него была швейная фабрика, на которой работал он сам, его жена, три дочери и еще с десяток наемных рабочих, в основном женщин.
В тысяча девятьсот тридцать восьмом году, когда в Германии взошли к власти "наци", начались еврейские погромы. Может, слышал что-нибудь о "хрустальной ночи"? - спросил Флянц.
Я покачал головой, а Флянц продолжал:
- Убийства невинных, поджоги синагог... В том году большая группа людей, больше тысячи человек, решили убежать от нацистов.
Появились слухи, что на другом конце Земли их готова приютить Куба. На последние деньги люди купили билеты. Они верили, что это были билеты для спасения их жизни!..
И вот они плывут на большом океанском лайнере, котрый назывался "Сент-Луис".
- Слышал ли ты о таком корабле? - последовал, как всегда, неожиданный вопрос Флянца.
- Я ни разу не видел океанских пароходов! - честно признался я, и, в свою очередь, решил рассказать о себе:
- Самый большой корабль, на котором я немного проплыл, был двухпалубный "Ян Фабрициус", он курсировал между Херсоном и Алешками. Верхняя палуба всегда была заполнена людьми и большими двуручными корзинами с овощами, а на нижней везли коров и телят на херсонский мясокомбинат, то есть на бойню…
- Вот именно, на бойню! - подхватил Флянц. - И этих несчастных, о которых я рассказываю, тоже везли, на бойню. После долгого плавания они оказались у берегов Кубы но... обездоленным людям даже не дали сойти на берег!
Сам капитан этого большого корабля пан Шрёдер был чловьеком честным! - взволнованно говорил лектор. - Шрёдер знал, что возвращение в Германию для его пассажиров означало концлагерь и неминуемую смерть - ведь его пассажирами были жиды...
И Шрёдер, на свой страх и риск, повел "Сент-Луис" к берегам Америки - к стране, приютившей миллионы беженцев со всего мира. Однако, к ужасу пассажиров и огорчению капитана, правительство США, во главе с президентом Рузвельтом, также отказало им в жизни, то есть в праве спасения в этой стране.
К сожалению, - печально произнес Флянц, - даже Канада отказалась бросить спасательный круг несчастным. "Великий и благородный мир" оттолкнул от себя этих людей… И Шредеру ничего другого не оставалось, кроме как возвратиться к берегам Германии...
"Жиды" никому не были нужны, - с горечью заключил профессор Флянц. Кровавые руки немецкого палача получили свободу убийства.
Тогда и началось выполнение плана по "окончательному решению еврейского вопроса"...
- Что это значит?- не понял я.
- Это означало, - жестко сказал Флянц, - что Гитлер получил от всего свободного человечества карт-бланш, то есть неограниченное право свободно убивать евреев везде, где ступит нога армии этого кровавого палача.
Да, именно так! Не изгонять, как во время крестовых походов и инквизиции, но именно " у-б-и-в-а-ть!"
Я молчал, ошеломленный услышанным. Неужели все это правда?!
Мы уже подошли к нашей кибитке, но и на этот раз ни Флянц, ни Ряпушка не зашли. Не зашли они и в течение всей следующей недели.
Но вот наступил выходной день. Кто-то постучал в старую деревянную дверь кибитки.
Я поспешил открыть и, к своему удивлению, увидел стоящих у входа Флянца и Ряпушку. Они были в чистых светлых рубашках, гладко выбриты.
Из глубины комнаты раздался голос матери: "Пшепрошем пановье!!"
Они зашли в кибитку. Пока глаза привыкали к темноте, гости немного потоптались у входа, я услышал басистый голос Ряпушки:
- День добжий, пани Малка! - и тут же на идиш - голос Флянца «А гитер туг!»
В руках у прибывших был большой портфель. Мама немного растерянно оглядела комнату и сказала:
- Саквояж можете поставить на тахту, рядом с собой… - и с улыбкой смущенно добавила: - К сожалению, это наша единственная мебель.
- Кресла в данный момент отсутствуют... Перед вами: наши кресла, наш стол, наша кровать и наш шкаф одновременно! - радуясь долгожданным гостям, засмеялся я.
Я не знал, что они придут именно сегодня, но это была удача. Будет чем угостить долгожданных гостей! С самого утра мы с Мошиком облазили все ничейные тутовые деревья и насобирали большую тарелку крупной чёрной и белой шелковицы!
Несколько минут мама, Флянц и Ряпушка о чем-то разговаривали на беглом польском языке. За это время мама заварила в нашем видавшем виды котле чай с арычной мятой, которую я принес. Она зачерпнула половником и каждому налила по полной чашке чая. Чашки были разные, но их объединяло то, что у всех были отбиты ручки.
Зато рядом с этими чашками красовалась полная тарелка свежей душистой шелковицы!
Я почти ничего не понял из того, о чем говорили мама с Флянцом и Ряпушкой, но не хотел оставаться в стороне, и рассказал Флянцу о просьбе Юсуфа следить за ними.
Флянц улыбнулся, как в прошлый раз положил мне на плечо руку и сказал:
- Майн таере бридер, мой дорогой брат, я случайно услышал, что тебе сказал Юсуф, и мы рады, что ты нам об этом сообщил.
Мы это знаем! Мы действительно здесь чужие! Но спасибо стране, которая дала нам убежище в минуту смертельной опасности.
- Пшепрошем пановье к нашему столу!.. - сказала мама.
Флянц и Ряпушка переглянулись, и мне показалось, что в их глазах блеснули слезы.
- Почекайте…- сказал Флянц, - один момент... - и, он, подобно волшебнику, вытащил из своей сумки-портфеля защитного цвета целую буханку хлеба.
И наша кибитка впервые за долгие месяцы наполнилась запахом настоящего белого хлеба. У меня даже закружилась голова. Но на этом чудеса не закончились: из того же саквояжа Флянц извлек два круга копченой колбасы. Настоящей живой колбасы!
Я молчал как околдованный. Меня просто оглушил этот давно забытый запах.
Когда я очнулся, на тахте лежала сложенная вчетверо белая скатерть, прихваченная мамой еще из Алешек, а на скатерти - нарезанный хлеб, колбаса и горка кусочков колотого сахара. Все было настоящим!..
За чаем гости рассказали, что создано новое польское правительство в изгнании и уже подписан польско-советский договор. Согласно этому договору где-то под Ташкентом формируется польская дивизия, а может быть, народная армия или, как говорил Флянц - "Войско польске" во главе с генералом Андерсом, и они оба, он и Ряпушка, будучи польскими гражданами, записались в это войско. "Мы будем воевать против германцев!"
На нашей тахте красовался их первый солдатский паёк.
Чтобы завершить историю моего знакомства с Флянцем и Ряпушкой, забегу несколько вперед.
Флянц, не раз говорил мне, что мечтает уехать в Палестину. И что именно Палестина и есть для евреев настоящий земной рай. Он даже сказал, что когда-нибудь все евреи, в том числе и я, Эльазар Шемтов, поймут это...
И я вспомнил, что как-то в долгую зимнюю ночь, когда Ион и Мошик, уже спали без задних ног, я читал "Всадника без головы" Майн Рида.
Горящий фитилек, опущенный в хлопковое масло, слабо освещал страницы книги, читать было трудно, и когда мне надоело, я оглянулся и увидел, что мать тоже не спит. Тогда я попросил рассказать о её детстве. Я любил слушать её спокойный голос и волнующие рассказы о далеком и неизвестном мне времени.
Она рассказывала о жизни в Варшаве, о своем нелегком детстве, юности.
…Она работала у хозяйки-белошвейки, научилась хорошо шить.
Во всем мире тогда бурлили революции, - вспоминала мама, - и Варшава была большим революционным городом. Всё, даже камешки были наэлектризованы революционными идеями.
Услышав это замечание, я даже засмеялся. Я представил себе, как идет полицейский, а революционный камешек прыгает с мостовой и "трах" по башке блюстителя старого порядка!..
Но мама продолжала, она говорила, что не все были революционерами, были и такие, кто стремился уехать из Польши в… Палестину. Одни отправлялись в Иерусалим молиться и даже покупали там землю, чтобы жить со своим народом, другие покупали лишь маленький кусочек земли, чтобы быть там похороненным...
Из этих рассказов матери я впервые услышал о Палестине нечто положительное.
Теперь из уст Флянца опять прозвучало слово "Палестина". Флянц, как и мама, тоже был из Польши, и оттуда же был поляк Ряпушка. И я вдруг ощутил какое-то особое теплое чувство к этим людям.
Тем не менее, когда однажды в выходной день я встретил Ряпушку и Флянца в форме польских солдат, то немного растерялся. Это была какая-то другая, не привычная, не красноармейская форма...
Но пока Флянц и Ряпушка работали в колхозе, они больше ни разу не надевали военную форму. Ждали, когда им пришлют приказ и они должны будут уехать.
Так продолжалось еще около месяца. И этот месяц мне особенно запомнился.
Ряпушка говорил, что и в армии они будут вместе с Флянцем. Советы его друга-еврея всегда будут нужны, а физической силы у него, Ряпушки хватит на двоих! И он показывал большой и тяжелый кулак.
Так они вместе и пошли в неизвестное будущее: могучий поляк Иван Ряпушка и его друг, еврей Мойше Флянц.
Прощаясь с нашей семьей, Флянц, сказал мне:
- Ты стал моим младшим братом, и я буду всегда рад с тобой встретиться, где бы это ни произошло…
Потом кивком головы попросил меня отойти в сторону и тихо произнес:
- Я знаю, что тебе можно доверить любую тайну - ты её никому не расскажешь, даже маме, - и тихо добавил: - Говорят, что армия Андерса, где мы на службе, направится в Италию. Там мы соединимся с Восьмой или другой Британской Армией. Потом двинемся через Иран, Ирак и Палестину. А еще, - сказал Флянц многозначительно, - некоторой части добровольцев будет разрешено остаться в Палестине. Там тоже идет война! И нужны солдаты, чтобы воевать против проклятых германцев…
И я понял, что среди тех польских солдат, кто останется в Палестине, будет и профессор Флянц, мой товарищ по сборке перца, по нелегкой колхозной жизни...
Я думал, что, наверное, не зря Мойше Флянц всей душой стремится в загадочную Палестину, в это, как он говорил, заветное место для всех евреев...
Но, конечно же, не для меня, Эльазара Шемтова!
Когда-то мама также бежала из Польши, но я-то родился в могучем Советском Союзе! Мой отец Берл Ионович Шемтов и старший брат Ион сражаются на фронте, за светлое будущее, не только нашей страны, но и порабощенной сейчас Польши и многих других стран. И, может быть, той самой Палестины, о которой с таким волнением говорил профессор Флянц…
Пройдет еще много лет, прежде чем Элька поймет, что его товарищ по сборке перца был глубоко прав, и сам Элька окажется на заветных землях Палестины.
Но будет это в совсем другое время, да и он, Эльазар, будет совсем другим человеком…
КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ
Пока же продолжались голодные дни и тяжелая работа в узбекском колхозе "Янги Турмыш".
…Но вот пышными зелеными зарослями поднялись помидорные кусты. Появились первые, пока еще очень твердые и зеленые помидоры, но Элька и его товарищи незаметно срывали зеленые шарики, жадно проглатывали их и тут же запивали журчащей арычной водой.
У всех без исключения заболели животы, появился страшный понос. Но все же это было лучше, чем пухнуть от голода.
Облегчение наступило, лишь когда помидоры созрели и высвечивали алым призывным пламенем из густой серебристой ботвы…
Именно тогда наступало время сбора урожая. И можно было выбирать…
Особенно вкусными были крупные красные помидоры. Их аромат, тяжёлая мясистая сладость - самое прекрасное в жизни, что только можно было себе представить!
" И мы ели!.. Ели это душистое чудо ровно столько, сколько могли вместить наши животы" - с улыбкой вспоминает Шемтов.
Эти помидоры оставили в сердце Эльазара добрую зарубку на всю дальнейшую жизнь, так и оставшись его любимым фруктом.
Пока же, безмерно объедаясь этой вкуснятиной, мальчишки непрестанно добавляли свою индивидуальную влагу к текущей в арыках воде, либо без конца приседали в тех же кустах помидоров, оставляя большие желтые разливы. Эти разливы были обильно расцвечены красной, не поддающейся перевариванию, помидорной кожурой.
Через какое-то время на смену помидорной благодати подоспела морковь. Прополка. Это уже роскошь. Незаметно, чтобы бригадир не видел, вытаскиваешь из влажной земли, вместе с бурьяном, розоватый корешок, стряхиваешь с него землю и, вытерев о полу рубашки, откусываешь где-то на середине...
Это просто волшебство! Рот заполняется душистым сладким соком... Аромат кружит голову... Вот оно - настоящее блаженство!
АЗАРНЫЕ РАДОСТИ
Однако в колхозе не всегда находилась работа для нас, детей беженцев. И тогда мы отправлялись на базар. У каждого была своя организованная "шайка".
В нашей группе, кроме меня, были Мошик и его друг Гаврик Крутой, чья семья - он, его сестра Бэла и их мама - беженцы из Одессы.
Я, естественно, был за старшего, мне ведь было пятнадцать! Мошик и Гаврик едва дотягивали до тринадцати.
Базар в Маргилане не имеет ничего общего с базаром в Кривом Роге, где я когда-то побывал с мамой. Вместо сплошной темно-серой массы голодных людей с озабоченными, злыми лицами здесь много загорелых людей, яркое солнце, а под лучами этого солнца, как бы хвастаясь своей красотой, желтеют душистые дыни, пузатые сочные арбузы. Их много, как больших булыжников на берегах горных речек.
Этот базар привлекал нас не случайно. Здесь всегда можно было чем-нибудь поживиться, только надо было немного соображать.
Если хозяин щедр, и хочет поскорее продать свой товар, он отрезает кусочек дыни и дает каждому покупателю пробовать. К такому продавцу мы подходим как бы нехотя, спрашиваем: "Сколько стоит половина дыни?"
Из предыдущих наблюдений мы знали, что целую, большую, как дирижабль дыню, почти никто не покупает.
Хозяин называет цену. И тогда Гаврик говорит мне: "Ты что не видишь - дыня большая, хорошо пахнет, но она вовсе не сладкая... Пошли дальше!"
Задетый за живое хозяин ехидно спрашивает: "Ты еще не пробовал дыня, а уже говоришь, что он не сладкий!.."
- А мне и не надо пробовать, - со знанием дела отвечает опытный Гаврик, - я и так вижу, что не сладкая.
Затем он неторопливо объясняет:
- Во-первых, на твоих дынях, даже разрезанных, нет ни одной пчелы или осы! А они всегда летят на сладкое. Это раз!
Во-вторых, - загибает палец Гаврик, - ты специально даешь очень маленький кусочек, чтобы нельзя было распробовать...
- На, пробуй! - не выдерживает критики обозленный хозяин и отмахивает большой кусок дыни. Гаврик пробует, дает мне, а я Мошику. И мы все трое, вмиг проглатывая душистую сладость дыни, сразу же разочарованно качаем головами: "Совсем не сладкая!"
Нас подводит Мошик. Он протягивает руку за вторым ломтем понравившейся дыни, и хозяин догадывается, что мы за птицы. Хватается за нагайку, но не успевает никого огреть. Мы мгновенно растворяемся в базарной толпе.
Есть и другие, более благородные приемы для добывания вожделенной пищи.
Мы идем в овощные ряды. Сюда привозят помидоры, огурцы, белую длинную, как морковь, и совсем не горькую ферганскую редьку, да и многое другое.
Я, как самый старший, выбираю ряды, где лучше всего можно применить развивающиеся базарные таланты.
Для человека наблюдательного, это совсем нетрудная задача. Всех продавцов можно разделить на три группы. Первая - это простые крестьяне или, как они здесь называются, "дехкане".
Вторая группа - это садоводы, в основном городская публика, имеющая приусадебные участки. Они продают абрикосы, инжир, виноград. Особенно много тутовника, то есть шелковицы - свежей и сушеной, спрессованной в брикеты.
И третья, самая противная группа - это перекупщики-спекулянты. К этим лучше не приближаться.
Надежнее всего иметь дело с дехканами. Я замечаю, что хозяин огурцов привозит на осле или арбе несколько мешков своего товара. Мы втроем, как родные братья, бросаемся к нему, хватаем мешки и старательно перекладываем на базарный прилавок, где всегда тесно от товаров, привезенных другими продавцами. При этом надо проявить немного нахальства и отодвинуть мешки соседа как можно дальше.
Если хозяин не прогоняет услужливых ребят - значит повезло. Попался хороший человек. Вообще-то, дехкане - люди прижимистые, но если они видят, что ты не жульничаешь, трудишься на совесть, то отмеряют щедрой рукой.
Хозяин стоит и ждет, пока я открываю один из его мешков: развязываю веревочку, отворачиваю края мешка, чтобы видеть огурцы во всей их аппетитной свежести...
Веревочку я аккуратно складываю и с уважением протягиваю хозяину.
При этом я передаю веревочку, примерно так, как передают друг другу уважаемые аксакалы пиалу с чаем в чайхане, то есть протягиваю хозяину сложенную веревочку левой рукой, а правую прижимаю к сердцу и чуть преклоняю голову.
Срабатывает. Хозяин берет сложенную веревочку, прячет за пазуху стеганого полосатого халата, набирает из открытого мешка щедрую порцию вожделенных овощей и опускает в нашу быстро подставленную торбу.
Первая трудовая удача!
В других случаях, хозяин может и прогнать, зло процедив сквозь зубы: "Рахмат!", что означает вовсе не "спасибо", а "Валите отсюда!"
Всё равно, к концу базарного дня наша "шайка" набивает голодные животы, а торба изрядно наполняется.
На базаре непрерывно гремят репродукторы.
...Где-то там, далеко идет война. Грохочут пушки, рвутся бомбы. Оттуда приходят редкие письма-треугольники… Главная наша мольба: чтобы Всемогущий, если он есть, сохранил отца и Иона.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По вечерам молодежь из семей "эвакуированных" собирается на небольшой утрамбованной площадке, на той самой, где в летние месяцы семья Шемтовых месит навоз и сушит валки для зимнего отопления.
Иногда Клара Эткинд приносит патефон, и тогда под звуки "Осеннего вальса" устраиваются танцы, или, как говорит мадам Жидовецкая, "молодые люди поднимают невыносимую пыль".
На площадку, не сговариваясь, приходит почти вся соседская молодежь, еще не призванная в армию. Приходят даже узбеки, правда, без девушек. Узбечкам почему-то категорически запрещается даже приближаться к этой площадке.
А однажды пришла Леся Дмитриевна. Эльазар уже знал, что она тоже здесь и работает учительницей русского языка в узбекской школе.
И вот, наконец, он её увидел. С ней вместе была Хана Хапун - девушка, приехавшая из местечка Казатин, кажется, Винницкой области. С Ханой дружил Ион.
Вначале Элька не узнал свою первую учительницу. Леся Дмитриевна как будто усохла. Или, может быть, это он сам сильно вырос? Но, все равно, она была такой же красивой, как и прежде, и влекла к себе с еще большей силой.
Элька отважился и пригласил её на танец. Это был все тот же "Осенний вальс"
Честно говоря, танцевал он плохо, не всегда следовал ритму мелодии. Сбивался с такта, но зато ему очень хотелось петь, и он тихонько напевал незамысловатые слова "Осеннего вальса".
И вдруг услышал, что те же слова напевает и Леся Дмитриевна. Голос у неё был чистый, волнующий, хотя и очень грустный.
Они кружились в вальсе. Эльазар держал свою учительницу очень крепко, и еще никогда не был таким сильным и счастливым.
К действительности их вернули веселые голоса ребят. Они оповещали, что вальс закончился, что все уже давно танцуют фокстрот…
Они остановились, Эльазар что-то несуразное бормотал, кажется, просил прощения, но Леся Дмитриевна молчала. Лишь тяжело дышала и грустно улыбалась.
С тех пор любимым танцем Эльазара стал именно вальс.
Со временем в традиционном и организованном гостеприимстве местного населения начали появляться нотки недовольства, подозрения, взаимного отталкивания.
Наверное, во многом были виноваты и беженцы.
Тяжелые условия жизни, голод, странные обычаи и привычки местного населения вызывали непонимание, раздражение, даже презрение, переходящее в ненависть. Беженцы, люди других географических широт и других традиций, столкнулись с совершенно иным образом жизни и иной культурой.
К Эльазару местные жители относились весьма дружески, особенно колхозный табельщик Юсуф. Он был в восторге, когда Шемтов научился молитвам и вместе с ним и "аксакалами" перед едой и после трапезы произносил: "Бисмилла Рахман Рахим… " или "Аллах Акбар…", хотя иногда допускал ошибки, и говорил: "Аллах амбар"...
Далее этого дело не шло, хотя Юсуф и призывал Эльазара молиться по несколько раз в день, даже подарил ему небольшой коврик, чтобы он мог молиться, касаясь лбом земли, как это делали узбеки.
Они верили в то, что делали, и это было их правом.
Эльазар относился к ним с уважением, ведь они приютили в это нелегкое время его семью. Однако подобно тому, как они не хотели принять образ жизни приехавших людей, так и он не мог, да и не хотел, принимать верования узбеков и их образ жизни.
Эти противоречия постепенно усиливались. Их раздували и местные старожилы, высланные в эти края много лет тому назад из центральных районов России. Среди высланных было немало ярых антисемитов.
Именно они растолковывали узбекам, что большинство наехавших - это "жиды", а все "жиды лживы, жадны, неуживчивы. Им всегда всего мало"...
Вслед за этим Эльазар обнаружил, что среди местного населения появилась своя интерпретация клички "жид", а именно: "джугут".
По вечерам на узких неосвещенных улочках Маргилана стало неспокойно, особенно в тех местах, где нашли приют эвакуированные.
Над головой идущего домой после работы человека мог неожиданно просвистеть камень. Или кто-то протягивал поперек узкой улочки невидимый шпагат, и спешащий человек мог легко споткнуться и упасть на камни, либо растянуться в густой дорожной пыли.
В один из таких вечеров Эльазар возвращался домой. Быстро темнело. Он хорошо знал эти неосвещенные улочки, зажатые с двух сторон саманными кибитками и глиняными дувалами. Тускло светил серп молодого месяца.
На душе было спокойно. Вот уже три месяца как Шемтов участвовал в работе отряда допризывников, созданного при военкомате.
Дружиной командовал лично Сокол - военком Маргилана. Эльазар оказался в этой дружине не случайно, хотя до призыва в Армию ему оставалось еще около двух лет. Когда Ион ушел в Армию, переживаниям Эльазара не было конца. Он очень хотел отправиться вместе с братом и давно всё рассчитал.
К тому же, как думал он, матери будет легче с одним Мошиком. Но Эльку отправили домой, объяснив, что он еще слишком молод, и его очередь еще не подошла.
Тем не менее, он не хотел сдаваться, вновь и вновь появлялся перед приемной комиссией, набавляя себе два, а то и три года.
Худой как жердь, рослый и крепкий, он выглядел, как ему казалось, ничуть не моложе, чем другие призывники, но его подводила метрическая выписка, где была указана дата его рождения.
Назойливые попытки Эльазара Шемтова заметил военком Сокол. Инвалид войны, успевший потерять на фронте правый глаз и левую руку, он видел лучше многих двуглазых. Он пригласил настойчивого допризывника к себе в кабинет и сказал, что война идет не только там, на далёких фронтах, где сражается его отец, и куда призвали его брата, но и здесь, в глубоком тылу.
- Ты и здесь можешь помочь сражающимся на фронте. Как ты знаешь, - говорил Сокол, - мы живем недалеко от границы с Восточным Туркестаном, или Кашгарией, а оттуда к нам непрерывной рекой течет контрабанда, в особенности опиум, гашиш или "анаша" и другая подобная гадость.
- Ты видел, как её принимают? - вдруг спросил Сокол.
И Эльазар вспомнил, как в полумраке базарной чайханы, узбек среднего возраста скрутил из новенького хрустящего рубля трубку, затем достал из мангала раскаленный уголёк, положил на него кусочек серой массы величиной с пчелу. Сразу же завился сизый дымок, и он, через эту рублевую трубку, несколько раз вдохнул струйку сладковатого дыма.
У Эльазара надолго остался в памяти этот сладковатый, немного одуряющий запах.
- ...Её курят в чайханах, переулках, на базаре, - между тем продолжал Сокол. - При нашем военкомате создается отряд допризывников для борьбы с контрабандой. И если ты стремишься помочь Красной Армии, то в отряде и для тебя найдется место. Но… это небезопасно, - подчеркнул военком.
- Согласен, - сходу ответил Шемтов.
- Нет, так не пойдет, - осадил его Сокол,- ты должен получить согласие матери. У тебя на фронте отец и старший брат. Ты теперь - глава семьи. Верно?
- Понял, - коротко ответил Эльазар.
Спустя три дня, он был принят в отряд.
Неделю они интенсивно изучали оружие. Особый интерес у ребят вызывал личный пистолет Сокола. Это был трофейный самозарядный "Вальтер" калибром девять миллиметров. Однако Сокол экономил патроны, и стреляли мальчишки только из нагана.
Потом приехавший из Ферганы специалист провел несколько занятий, из которых ребята узнали обо всех видах наркотиков, продаваемых на местном рынке. Он познакомил с их запахом, внешним видом, различными ухищрениями для их тайной перевозки и хранения.
Эльазар получил оружие - старый, но настоящий револьвер системы "наган" и пять трубочек-патронов.
И вот пошел уже третий месяц, как он дважды в неделю участвует в облавах на гашишников. Выполняет различные боевые задания.
…В тот вечер произошло событие, глубоко потрясшее Эльазара.
В быстро накативших сумерках он возвращался домой. Далеко впереди он заметил силуэт одинокой торопившейся женщины. Эльазар замедлил шаг, чтобы она не подумала, что кто-то её преследует.
Он понял, что, как и он, женщина была из эвакуированных, так как местные женщины-узбечки по вечерам на улицу не выходили, а если и выходили, то в сопровождении мужчины. Обязательно были в парандже или прикрывали лицо какой-нибудь накидкой.
Неожиданно в ночной тишине улочки раздается её отчаянный крик. Эльазар замер. "Кто обидчик?!" Но кроме него и женщины, на улочке никого не было.
Он увидел, как неизвестная вдруг остановилась, опершись о глиняный дувал, затем медленно осела на землю. Эльазар неторопливо приблизился. Рядом с женщиной валялись её аккуратно связанные туфли.
К своему крайнему удивлению в женщине он узнал Лесю Дмитриевну. Она, как почти все беженцы, щадя обувь, шла домой босиком, шлепая по густой уличной пыли, еще не остывшей от горячего дневного солнца. Как нередко случалось, она наступила на скорпиона.
Эльазар попытался помочь ей встать, но сильная боль не позволяла. И тогда он поднял Лесю Дмитриевну на руки и понес к её дому. Он хорошо знал, где она снимала свой угол.
Подойдя к кибитке, он постучал в дверь ногой. Открыла хозяйка и встревожено спросила: "Что такой случился?!"
- Ужалил скорпион! - быстро ответил Эльазар.
- Вай-вай! - запричитала пожилая узбечка, - неси скорей в кибитку...
- Касым-ака! - позвала она своего мужа. - Иди скорее! Лусу ударил скарпьён!
Пришел Касым-ака, его смуглое до черноты лицо, обрамленное густой белой бородой, было озабочено. Узнав в чем дело, он поспешил к шкафу-нише и вытащил банку с лекарством. Бегло осмотрел место, куда вонзил свое жало скорпион, смахнул с ноги пыль, прижал красную точку, пытаясь выдавить яд, но ранка была сухой и Касым-ака быстрым движением ножа, чуть надрезал место поражения. Появилась капелька крови и он, смочив в лекарстве тряпицу, приложил её к ужаленному месту.
- Потерпи, дочка, - спокойно сказал он, - ничего страшного. Боль скоро не будет…
Эльазар молча наблюдал за происходящим. Он никак не мог поверить, что еще несколько минут назад, он держал на своих руках Лесю Дмитриевну. Она была удивительно легка. Её страдающее тело прильнуло к нему, как бы моля о защите. И он её защитил.
Он знал, что когда жалит скорпион, необходимо в самое короткое время смазать ужаленное место народным противоядием - настой из хлопкового масла с множеством мертвых скорпионов.
Почти в каждом доме местных жителей Маргилана был такой настой.
Главное, не позволить, чтобы яд разошелся по телу.
Шемтов ждал, когда Лесе Дмитриевне станет легче, намереваясь сразу же уйти. Время было позднее.
Но вот Леся Дмитриевна протянула ему руку и попыталась улыбнуться. Эльазар обрадовался: значит, наступило облегчение. Он счастливо улыбнулся ей в ответ. Но он видел, что она смущена всем произошедшим не меньше него.
...Он нес её на руках, свою первую учительницу, свою первую любовь, и она казалась ему удивительно легкой. Возникло трепетное чувство заботы, желание и впредь её защищать.
С этого дня он часто забегал в дом семейства Касым-аки.
Если удавалось раздобыть на базаре пару хороших яблок, горсть-другую черной сладкой шелковицы, он смущенно выгружал это богатство на тумбочку Леси Дмитриевны.
Всегда, когда приходил Эльазар, хозяйка дома Зейнаб приносила холодной воды и тут же тактично удалялась.
Однажды в полдень, в выходной день, когда пришел Шемтов, он увидел хозяев дома Касым-аку и Зейнаб в нарядных одеждах. Они отправлялись в Фергану на свадьбу родственников.
Леся Дмитриевна, оправившись от недавней драмы, готовилась к возвращению на работу. На стуле, рядом с её тумбочкой, лежала толстая стопка ученических тетрадей. Эльазар, увидев эти школьные принадлежности, смутился. Он вдруг вспомнил, как она когда-то проверяла и его тетради... Было это очень, очень давно... еще в той далекой, совсем другой жизни... Там он был её ученик, мальчик, как и многие другие, его сверстники. А впрочем… Было ли это когда-либо вообще?
Совсем другое положение сейчас. Он давно не ученик в её классе. Он повзрослел, начал брить загустевшую на лице щетину, стал сильным и чувствовал себя способным её защитить. Он ни на миг не мог забыть, как нес её, содрогающуюся от боли, на своих руках. Она казалось ему невесомой.
Он вдруг ощутил, что в нем разгорается совсем не детское чувство, с которым он не в силах справиться.
Увидев вошедшего Эльазара, Леся Дмитриевна как-то по-особенному посмотрела на него, будто увидела впервые. Смущенно склонила голову, сняла со стула тетради и кивком пригласила сесть.
Потом, направилась к двери и громко позвала хозяйку дома.
- Касым-ака и Зейнаб уехали на свадьбу… - сказал Эльазар и, опустив глаза, спокойно подошел к стулу и сел. Она стояла рядом, и он почти физически ощущал её взволнованное дыхание. Оба растерянно молчали.
- Сегодня День Красной Армии - двадцать третье февраля. Сокол поздравил нас, допризывников, а потом весь отряд отпустил домой... - тихо произнёс Эльазар и положил перед Лесей Дмитриевной плитку американского шоколада - подарок каждому дружиннику.
Оба, не говоря ни слова, замерли. Эльазар нарушил затянувшееся молчание:
- Поздравляю с праздником - Днем Красной Армии… - и неловко обнял любимую учительницу.
Она молчала. Он слышал лишь её частое дыхание, чувствовал дрожь её тела. Он неумело поцеловал её не то в щеку, не то в ухо.
Она не сопротивлялась...
Эльазар на всю жизнь запомнил её глаза - большие серые, полные слез и детского удивления.
Поздней ночью, прощаясь, она сказала, каким-то воспаленным, срывающимся голосом: "Этого не должно было случиться! Я преступница! Я никогда себе этого не прощу… Ты это понимаешь?!. Никогда!!!"
Шемтов кивал и улыбался: "Ты это понимаешь ?" - была та самая фраза, которую он не раз слышал в далекие школьные годы в той, прошлой жизни, в колхозе "Реконструкция".
Нет! Тогда, он этого не понимал, а теперь тем более. Теперь он точно знал, что когда кончится война, на которой он обязательно будет воевать, и когда он возвратится, он женится на Лесе Дмитриевне - своей первой и единственной любви...
Увы! Больше ему не довелось с ней встретиться. Их военкомовский отряд или, как его называл Сокол, "дружина" отправился на целых трое суток в помощь пограничникам, патрулировавшим горную границу с Кашгарией.
Когда отряд возвратился, Эльазар сразу же пошел к Лесе Дмитриевне, однако вместо Леси Дмитриевны, его встретил Касым-ака и передал ему письмо. Это было грустное письмо прощания...
Леся Дмитриевна уехала в Наманган. Она поступила на курсы военных медсестер...
Эльазар почувствовал, что его горло как будто сдавил тяжелый металлический обруч. Не говоря ни слова, он вышел на пыльную улочку, и тут же перед его взором возникла картина сумерек и он, несущий на руках по этой, еще тёплой от дневного солнца взрывающейся пыли свою первую любовь...
Нет! Больше оставаться в Маргилане он не может! - Раз в Армию его не берут, а время уходит, он тоже должен уехать. Он поступит в Кызыл-Кийский горный техникум - самое близкое от Маргилана учебное заведение.
С трудом найдя удостоверение об окончании в Алешках седьмого класса, он поехал в Кызыл-Кия, чтобы подать документы. Теперь он ждал вызова.
Илья НЕМЦОВ.















 «Мне много раз предлагали уехать работать за рубеж или в Россию, и я всегда отказывался. Как я буду жить без нашей музыки, без нашего танца? Ведь приглашали работать классическим балетмейстером. Я — узбек, и это должно проявляться в моих танцах».
«Мне много раз предлагали уехать работать за рубеж или в Россию, и я всегда отказывался. Как я буду жить без нашей музыки, без нашего танца? Ведь приглашали работать классическим балетмейстером. Я — узбек, и это должно проявляться в моих танцах». Нас, детей, было десять человек, и, чтобы мы не тратили времени попусту, родители заставляли нас заниматься в кружках и спортивных секциях. Республиканский дворец пионеров и школьников тогда находился в здании нынешнего Дома приемов МИДа Узбекистана, в бывшем дворце князя Романова. Кроме кружков, там были бесплатные аттракционы, и мы часто ходили туда. Однажды мы с братьями случайно оказались на празднике, проходившем там. Нас завели в хоровод. Я шел за ребятами и просто повторял их движения. Видимо, руководительница увидела во мне что-то эдакое, потому что предложила посетить бальный кружок. Так я и остался в нем. Естественно, махаллинские ребята начали подшучивать надо мной, обзывая девчонкой. Братья тоже были не в восторге от моего увлечения. Да так, что они вскоре подманили меня на велоспорт. Кроме этого, я еще занимался с ними волейболом и легкой атлетикой.
Нас, детей, было десять человек, и, чтобы мы не тратили времени попусту, родители заставляли нас заниматься в кружках и спортивных секциях. Республиканский дворец пионеров и школьников тогда находился в здании нынешнего Дома приемов МИДа Узбекистана, в бывшем дворце князя Романова. Кроме кружков, там были бесплатные аттракционы, и мы часто ходили туда. Однажды мы с братьями случайно оказались на празднике, проходившем там. Нас завели в хоровод. Я шел за ребятами и просто повторял их движения. Видимо, руководительница увидела во мне что-то эдакое, потому что предложила посетить бальный кружок. Так я и остался в нем. Естественно, махаллинские ребята начали подшучивать надо мной, обзывая девчонкой. Братья тоже были не в восторге от моего увлечения. Да так, что они вскоре подманили меня на велоспорт. Кроме этого, я еще занимался с ними волейболом и легкой атлетикой. Я начал заниматься в так называемом бально-массовом кружке. Когда наша руководительница ушла в декретный отпуск, я попал в кружок национального и русского балета, где овладел национальным и европейскими танцами. Руководительница нашего коллектива Белла Арутюнова привила нам любовь к узбекскому танцу. Из этого кружка вышли Гульчехра Жамилова, Дилафруз Джаббарова, Кизлархон Дустмухамедова, Малика Ахмедова, Фаррух Закиров, а также очень много заслуженных артистов, деятелей искусства, таких как Насиба Максудова, Джамшид Закиров и другие. Конечно же, после того как столько воспитанников этой удивительной женщины добились высот в мире искусства, ей дали звание заслуженной артистки Узбекистана. Воспитать такую плеяду артистов – ярких звезд – поистине было чем-то уникальным. После нас этот коллектив стали называть танцевальным ансамблем «Юлдуз» – «Звезда».
Я начал заниматься в так называемом бально-массовом кружке. Когда наша руководительница ушла в декретный отпуск, я попал в кружок национального и русского балета, где овладел национальным и европейскими танцами. Руководительница нашего коллектива Белла Арутюнова привила нам любовь к узбекскому танцу. Из этого кружка вышли Гульчехра Жамилова, Дилафруз Джаббарова, Кизлархон Дустмухамедова, Малика Ахмедова, Фаррух Закиров, а также очень много заслуженных артистов, деятелей искусства, таких как Насиба Максудова, Джамшид Закиров и другие. Конечно же, после того как столько воспитанников этой удивительной женщины добились высот в мире искусства, ей дали звание заслуженной артистки Узбекистана. Воспитать такую плеяду артистов – ярких звезд – поистине было чем-то уникальным. После нас этот коллектив стали называть танцевальным ансамблем «Юлдуз» – «Звезда». Однажды меня пригласили работать в коллектив творческой самодеятельности ирригационного института. Естественно, я не отказался от дополнительного заработка. Тогда я был молодым и энергичным, мне ничего не стоило после основной работы еще с кем-то позаниматься.
Однажды меня пригласили работать в коллектив творческой самодеятельности ирригационного института. Естественно, я не отказался от дополнительного заработка. Тогда я был молодым и энергичным, мне ничего не стоило после основной работы еще с кем-то позаниматься. После окончания хореографического училища я работал в Театре оперы и балета имени Навои и отработал весь его репертуар. А потом меня пригласили в ансамбль «Шодлик». Проработав в нем четыре года, я уехал учиться в ГИТИС, где получил образование классического балетмейстера.
После окончания хореографического училища я работал в Театре оперы и балета имени Навои и отработал весь его репертуар. А потом меня пригласили в ансамбль «Шодлик». Проработав в нем четыре года, я уехал учиться в ГИТИС, где получил образование классического балетмейстера.











































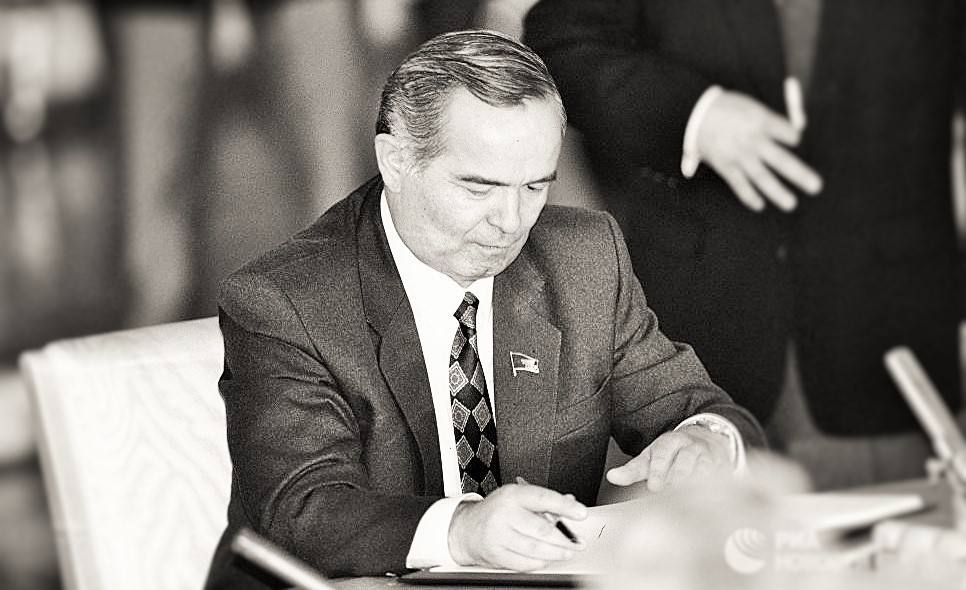






 5.
5.