![Медресе Барак-хана Медресе Барак-хана]() Ташкент – город на границе земледельческих оазисов Средней Азии и бескрайних евразийских степей существует более двух веков. В глубокой древности он не был особенно крупным и по значению в истории значительно уступал своим более южным соседям – Самарканду и Бухаре. Но ученые сегодня уверенно идентифицируют на территории современной столицы Узбекистана несколько значительных археологических объектов, бывших предками Ташкента. Да и сохранившиеся памятники древней архитектуры имеют достаточно почтенный возраст. Так, знаменитая подземная келья при мавзолее Зайн-ад-Дина бобо построена в ХП веке. Но основная масса древних памятников Ташкента, которые сегодня можно увидеть, относится к ХVI веку, когда Ташкент стал центром одного из уделов государства Шейбанидов и управлялся авторитетной ветвью этой династии.
Ташкент – город на границе земледельческих оазисов Средней Азии и бескрайних евразийских степей существует более двух веков. В глубокой древности он не был особенно крупным и по значению в истории значительно уступал своим более южным соседям – Самарканду и Бухаре. Но ученые сегодня уверенно идентифицируют на территории современной столицы Узбекистана несколько значительных археологических объектов, бывших предками Ташкента. Да и сохранившиеся памятники древней архитектуры имеют достаточно почтенный возраст. Так, знаменитая подземная келья при мавзолее Зайн-ад-Дина бобо построена в ХП веке. Но основная масса древних памятников Ташкента, которые сегодня можно увидеть, относится к ХVI веку, когда Ташкент стал центром одного из уделов государства Шейбанидов и управлялся авторитетной ветвью этой династии.
Другой группой интересных памятников истории и архитектуры являются сохранившиеся постройки нового города, созданные талантливыми инженерами конца Х1Х - начала ХХ века для общественных учреждений административного центра Туркестанского края, образованного в Средней Азии после завоевания царской Россией.
Наконец, наша современность, включающая в себя и старое, и новое. Многочисленные перестройки, полные перепланировки, грандиозное суперсовременное строительство – все это превратило Ташкент в уникальный образец самого крупного среднеазиатского мегаполиса. И для нас чрезвычайно важно попытаться осмыслить взаимоотношения древности и современности для того, чтобы понять сам дух нашего города.
Люди живут на месте современного Ташкента уже много тысяч лет. Благодатная зелень Ташкентского оазиса, раскинувшегося по берегам небольшой, но многоводной реки Чирчик, привлекла человека еще в каменном веке. Для того, чтобы расширить площадь орошаемых Чирчиком земель, в верхнем его течении были отведены многочисленные каналы. Они действуют и сегодня, протекая через современный город, и имеют вид природных речек (Бозсу, Анхор, Бурджар, Салар), но на самом деле это ирригационные сооружения, созданные людьми 2 - 2,5 тысячи лет тому назад. Многие холмы, угадываемые под городской застройкой, - остатки поселений вдоль древних оросительных каналов.
![история ташкента]()
Священные сосуды саков
I-IV вв. Ташкентская область
Считается, что самым древним населением Ташкентского оазиса были очевые лемена саков и массагетов. В древнеперсидских источниках они
называются саки-хаумварака, то есть саки, почитающие Хаому (хаома – в древних культах Востока – особый напиток
и благовонное курение для священнодействий во время богослужений).
Саки не имели городов, вели кочевой образ жизни и быстро передвигались со стадами с места на место. С детства все, включая женщин, были обучены искусному владению оружием и обращению с конем. В случае военной опасности взрослые образовывали многочисленное конное ополчение. Они сражались «посредством бега», обернувшись назад и стреляя на скаку из луков. Эта тактика давала сакам преимущество в битвах с завоевателями на собственной территории.
![ташкент сакский лук]()
Сакский лук и стрелы VI-IV вв. до н.э
Постепенно под влиянием исторического прогресса саки начали переходить к оседлости, что способствовало развитию различных видов ремесленного производства, торговли. Во второй половине 1 тысячелетия до н.э. появились первые города на границе между Великим Евразийским степным коридором и внутренними областями Средней Азии, в том числе и Ташкент. Научно доказано существование нескольких археологических объектов –предков нашего города: Шаш-тепе, Минг-урюк-тепе, Ак-тепе Юнусабадское, Ак-тепе Чиланзарское и других. Сегодня это обычные земляные холмы (само тюркское слово «тепе» означает холм), которые все больше теряются под современной городской застройкой. Но когда-то здесь возвышались сторожевые башни и крепостные стены, к которым со всех сторон примыкали домики ремесленников и земледельцев. Остатки этих сооружений были обнаружены во время археологических раскопок, которые начались в этих местах еще в XIX веке. Материалы раскопок – керамическая посуда, монеты, железные орудия труда, украшения - представлены в экспозициях Государственного музея истории Узбекистана.
Самым древним из них считается холм Шаш-тепе в районе Чиланзара ( 2-1 вв. до н.э. – УШ в. н.э.), на котором обнаружены находки, относящиеся к 1 в. до н.э. Он расположен на правом берегу Салара, вдоль улицы Чаштепинской в сторону поселка Иркин.Остатки материальной культуры, найденные в нижнем культурном слое, датируются VI веком до н.э. Отсчет городской культуры ведется со II – I веков до н.э., когда на вершине холма строится замок-крепость в виде квадрата с закругленными углами. Внутри находились узкие длинные помещения, перекрытые сводчатым потолком. Замок окружала оборонительная стена, построенная по всем правилам военного искусства того времени. Вокруг располагались кварталы ремесленников и земледельцев.
![Древнй ташкент Шаштепа]() Шаш-тепе, II-I вв. до н.э. – VIII в н.э.
Шаш-тепе, II-I вв. до н.э. – VIII в н.э.
В китайских хрониках II-I века до н. э. район Ташкента упоминается под именем Юни, позднее - Ши. Он описывается как часть могущественного полукочевого государства Кангюй (Кангха), основанного саками в III в до н.э. В документах древнеперсидских царей, предпринимавших сюда военные походы, город и весь оазис по берегам Чирчика называется Чач. Одно из первых
точно датированных упоминаний района современного Ташкента под именем Чач относится к 262 году н. э. Чач упоминается в победной надписи персидских царей на цоколе древнеиранского святилища «Кааба Зороастра» в Накш-и-Рустаме (юг современного Ирана). Ко времени составления этой надписи территория Чача занимала долины рек Чирчика и Ангрена. Скорее всего, до III века н. э. в области Чач существовало несколько отдельных княжеств, каждое со своим правителем-дихканом. На согдийском языке так назывался богатый феодал, владелец замка или небольшого поселения. Интересно, что древнее согдийское слово сохранилось до наших дней. Правда, его значение изменилось и в современном узбекском языке дехканин означает просто крестьянин.
А с III века страной правил верховный царь. По-согдийски его называли гувс, а по-тюркски - тутунь. Он чеканил свою монету, выпускал указы и был предводителем войска всех дихканов.
Считается, что его столица, главный город зороастрийского государства, существовавшего на территории Ташкента с III по VIII век, находилась у канала Салар, там, где в районе Северного железнодорожного вокзала сохранились на холмы Минг-Урюк-тепе. Археологические раскопки показали, что это и есть остатки первоначального города Ташкента двухтысячелетней давности. Свое название эта местность получила от огромного сада (минг – тысяча, урюк – абрикосовое дерево), росшего в конце ХIХ века на берегу канала Салар. Холмистая территория площадью около 20 гектаров – вот что осталось к тому времени от древней столицы правителей Чача - Мадины аш-Шаш, которая в VIII веке была разрушена и сожжена арабскими завоевателями.
Из-за того, что замок горел, раскопки, проводившиеся здесь в ХIХ веке, дали очень мало находок. Были найдены монеты, глиняные кирпичи, обвалившиеся балки, остатки стен. На стенах были видны слабые следы росписей, подобных тем, что по согдийским обычаям украшали дворцовые помещения в Афрасиабе и находятся сейчас в музее Афрасиаба в Самарканде. Однако фрески Минг-урюка так сильно пострадали от огня, что ни сохранить, ни восстановить их не удалось.
Сегодня от холмов Мингурюк-тепе, в которые время превратило первую столицу Ташкента, остался лишь небольшой холм между жилыми домами. Еще несколько лет назад здесь еще была видна дворцовая арка, но ее смыло дождями. Стоя на вершине холма, можно пока проследить направление крепостной стены, но, вероятно, и эти следы скоро исчезнут. Население Чача, как и жившие южнее согдийцы, принадлежало киндо-европейским народностям и говорило на восточно-иранских языках. Местные жители были огнепоклонниками и исповедывали исконно среднеазиатскую религию – зороастризм.
![ташкент Минг урук]() Минг-урюк-тепе, III-VIII вв
Минг-урюк-тепе, III-VIII вв
Памятники эпохи зороастризма разбросаны по всей территории современного Ташкента. Под отдельными холмами в черте города археологами обнаружены небольшие укрепленные поселения-замки, храмы Огня и других зороастрийских божеств.
Довольно часто попадаются в земле Ташкента и оссуарии – украшенные глиняные сосуды для погребения человеческих костей по необычному обряду зороастрийцев.
![история ташкента зороастрийский амулет]() Зороастрийский амулет, изображающий борьбу добрых и злых сил, II тыс. лет до н.э.
Зороастрийский амулет, изображающий борьбу добрых и злых сил, II тыс. лет до н.э.
Множество завоевателей побывало на этих землях. Легенды рассказывают о пребывании в Ташкенте героя древней истории - Александра Македонского. Проносились из Прииссыккулья в Индию орды загадочных кочевников юе-чжей. Воевал в здешних степях с племенами плоскоголовых эфталитов герой «Шах-намэ» неукротимый сасанидский царь Бахрам-Гур.
В VI веке в Среднюю Азию вторглись тюркские племена. Их родиной был Алтай, где образовалась могущественная конфедерация кочевников - Тюркский каганат. Каган (правитель) западных тюрков в 60-е годы VI века н. э. подчинил себе Чач. Тюрки завоевали предгорные оазисы, но сами продолжали кочевать в степях. Их многочисленные вожди и правители лишь формально подчинялись верховному владыке. Несмотря на вхождение в Тюркский каганат, Чач сохранил свой язык и культуру. Государственным языком оставался согдийский. На нем писали официальные документы и делали надписи на монетах, которые чеканил правитель Чача. Рядом с родовым знаком (тамгой) правителя на них указывали имя властелина и его двойной титул: по-тюркски (тутунь) и по-согдийски (гув-князь).
Близость кочевой степи обеспечивала постоянный спрос на изделия городских мастеров, что способствовало развитию разнообразных ремесел и оживленной торговле. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках в Ташкенте монеты из многих других государств, расположенных по всему Шелковому пути – от Византии до Китая. Источники сообщают также об особом развитии здешней изобразительной и музыкальной культуры.
![ташкент погребения зороастрийца]() Зороастрийский погребение в оссуарии .
Зороастрийский погребение в оссуарии .
К VIII веку столица страны Чач, расположенная на берегу Салара, имела в окружности более четырех километров. Город включал цитадель, где располагались дворец и храм, кварталы, застроенные домами знати (шахристан) и ремесленников (рабат). Вокруг города располагались сельскохозяйственные земли, селения, замки феодалов (например, замок Ак-тепе Чиланзарское V-VIII веков, Ак-тепе Юнусабадское III – VIII веков ), пограничные сторожевые башни.
Чиланзарский район Ташкента богат памятниками старины – даже под современной застройкой то здесь, то там можно различить невысокие холмы-тепе. Как правило, они скрывают остатки древних цивилизаций. Чиланзарские тепе привлекли внимание археологов еще в конце XIX - начале XX веков.
Наиболее известные раскопки были проведены на холме Ак-тепе, что означает «белый холм». Средневековый замок возник здесь в V веке н.э. Это была многоэтажная, высокая, квадратная в плане башня-донжон. По углам располагались овальные бастионы, на первом этаже - крупные нежилые помещения. Анализ полученного при раскопках материала показал, что замок представлял собой святилище, храм в честь духов умерших. Скорее всего, он был посвящен Сиявушу - богу природы, умирающему и воскресающему ежегодно. Этот культ был широко распространен среди зороастрийцев-огнепоклонников Средней Азии в доисламские времена.
![монеты ташкента монеты ташкента]()
Замок Ак-тепе Чиланзарского погиб в VIII веке в огне большого пожара при нашествии арабов. После него остался только оплывший холм-тепе недалеко от площади Ак-тепе внутри жилого массива вдоль протока канала Боз-су.
![Ташкент Ак тепа]()
Ак-тепе Чиланзарское, V-VIII вв.
Ак-тепе Юнусабадское (III – VIII века) расположен на 17-м квартале массива Юнусабад. Это остатки замка одного из мелких владетелей Чача, который был сторожевой крепостью на границе Чачского оазиса и кочевой степи. Его массив, в отличие от Минг-урюка, сохранился почти полностью, хотя в свое время город на месте Минг-урюка занимал гораздо большую площадь. Но сегодня Ак-тепе Юнусабадское – самый большой по площади и лучше всего сохранившийся археологический объект на территории Ташкента.
Раскопки на Юнусабадском Ак-тепе проводились в 1948 году. Были восстановлены первоначальная планировка строения, храм огня, двухэтажная башня-донжон, где жил сам правитель, небольшой двор вокруг, где теснились домики ремесленников, склады и прочее.
![самая высокая точка Ташкента Ак тепа]()
Ак-тепе Юнусабадское (III – VIII века)
Крепость расположена в удобном месте, в самой высокой точке над Ташкентом. С башни открывается очень хороший обзор всей местности, вплоть до площади Чор-су и Ташкентского тракторного завода.
II. Ташкент в эпоху средневековья: архитектурные памятники и исторические места
В VIII веке в жестоких и продолжительных сражениях Средняя Азия была завоевана Арабским халифатом. Арабы разбили поодиночке отряды правителей древних среднеазиатских государств и степных вождей, принеся с собой новую религию - ислам. Древний город огнепоклонников-зороастрийцев в районе Мингурюк-тепе был полностью сожжен, разрушен и больше не возродился. Та же участь постигла и другие замки и храмы.
Жители Чача заново отстроили свою столицу-крепость только в IX веке, в пяти километрах от старой, на холме между современными площадями Хадра, Эски-Джува и Чорсу. Этот город, основанный в 819 году Яхьей ибн Асадом, стал прародителем современного Ташкента.
Яхья ибн Асад - младший из четырех братьев, происходивших из иранской династии саманидов, называвших себя Саман-худатами. Братья получили в управление от арабского наместника восточной части халифата разные земли Средней Азии. Удел Яхьи ибн Асада назывался аш-Шаш и Илак. Яхья выбрал очень удобное и стратегически выгодное место для строительства города - на перекрестке трех важнейших торговых путей древности. Первый вел на юг, в Самарканд (городская улица на месте старого караванного пути и в наши дни называется Самарканд-дарбаза – Самаркандские ворота).
В Ферганскую долину шел путь по направлению к каналу Анхор вдоль современной улицы Навои. На север, в кочевую степь, вела третья дорога, начинавшаяся от площади Эски-Джува, где находился дворец правителя. Название Эски-Джува означает Старая башня. И действительно, основание древней дворцовой башни, заложенное
Яхьей ибн Асадом, сохранялось на площади вплоть до начала ХХ века.
![варота Ташкента варота Ташкента]()
Имитация древних ворот, ведущих в Ташкент на улице Самарканд-дарбаза
До наших дней дошло старинное название центральной улицы древнего города – Гульбазар (цветущий рынок, рынок цветов), и даже небольшой участок самой улицы за холмом, на котором стоят медресе Кукельдаш и мечеть Ходжи-Ахрара. Улица вела через жилые кварталы-махалля к рынку, который возник у подножия городского холма одновременно с первыми городскими постройками и вот уже больше тысячи лет существует на этом месте. Мечеть Ходжи-Ахрара и медресе Кукельдаш были построены намного позже - мечеть в ХV, а медресе в ХVI веке.
В IX веке в горах Ташкентской области (окрестности современного города Ангрен) были открыты богатые месторождения серебра. Их разработка продолжалась несколько столетий. На серебряных дирхемах Ташкента того периода проставлено как бы новое имя города аш-Шаш. Так звучит слово Чач в арабском языке, в котором отсутствует буква «ч». В документах того времени наш город фигурирует либо под названием Бинкет, либо под арабским названием мадина аш-Шаш. Считается, что в XI веке название трансформировалось в Таш-кент. По-тюркски это означает «каменный город», хотя каменных построек в нем не было.
В середине ХХ века там, где сейчас находятся рынок Чорсу и станции метро Чорсу, одновременно со строительными работами проводились археологические раскопки. Они дали много интереснейших находок, относящихся, в основном, к Х-ХII векам. Были обнаружены мастерские ремесленников и их изделия, знаменитые тогда на Востоке. Особенно славились
![монеты в Ташкенте монеты в Ташкенте]()
Монеты Шаша Х-ХII вв. Ташкентская область
шашская керамика, которую арабские путешественники называли «не имеющая себе равной», и кожа зеленоватого цвета особой выделки - «шашский шагрень».
В 1210 году город был практически полностью разрушен войсками хорезмшаха Мухаммада, но со временем отстроился заново. На своем старом месте остался и городской рынок, с которым связано множество интересных исторических фактов.
![керамика Шаша керамика Шаша]()
Шашская карамика IX-XIв
Так, на этом рынке в конце Х века был куплен шестилетний мальчик-раб по имени Себук-тегин. Онвырос и стал воином, поступив на службу в гвардию тюркских гулямов, созданную
Исмаилом Самани. Сделав блестящую военную карьеру и став военачальником, он получил в управление город Газну на территории нынешнего северного Афганистана, где основал независимое государство и положил начало новой правящей династии Газневидов. Его сын – знаменитый Махмуд Газневи по прозвищу Сын раба, захвативший ряд областей Ирана, Мавераннахра и Индии, превратил государство Газневидов в ![керамика Шаша керамика Шаша]()
могущественную империю. Таким образом, вся эта династия, которая в течение двух веков владела практически всем средним Востоком, происходит от раба, купленного на ташкентском рынке Чорсу.
Через мадину аш-Шаш проходила самая удобная дорога из бескрайних степей в плодородные оазисы Средней Азии. Поэтому войны за обладание
городом продолжались непрерывно.На протяжении VIII - первой половины ХУШ вв. ![Ташкентская керамика Ташкентская керамика]() Ташкент переходил от арабских военачальников к наместникам иранской династии Саманидов, от Саманидов – к тюркам-караханидам, от тех – к семиреченским кочевникам кара-китаям, а затем – к хорезмшаху Ала ад-Дину Мухаммаду. В апреле 1220 года монголы во главе со старшим сыном Чингиз-хана Джучи захватили и разграбили город, который вошел в состав улуса Чагатая , а с 1346 года, после распада Чагатайского улуса, перешел во владения ханов Моголистана.
Ташкент переходил от арабских военачальников к наместникам иранской династии Саманидов, от Саманидов – к тюркам-караханидам, от тех – к семиреченским кочевникам кара-китаям, а затем – к хорезмшаху Ала ад-Дину Мухаммаду. В апреле 1220 года монголы во главе со старшим сыном Чингиз-хана Джучи захватили и разграбили город, который вошел в состав улуса Чагатая , а с 1346 года, после распада Чагатайского улуса, перешел во владения ханов Моголистана.
Вооружения война из войска Темуридов
Но несмотря на непрекращающиеся войны, до наших дней сохранился замечательный памятник древней архитектуры ХП века – знаменитая подземная келья (чилля-хона) шейха Зайнутдина (Зайнутдина-бобо) (1214 год – конец XIII века), самое старое действующее здание Ташкента. Сейчас первоначальная кирпичная кладка снаружи скрыта под штукатуркой, вымостка на полу - современная, однако внутри находятся подлинные стены того времени.![воин Темура воин Темура]()
Шейх Зайнутдин - почитаемый святой покровитель Кукчи, одного из четырех древних районов Ташкента, родился в Багдаде. Его отцом был знаменитый Шахабуддин Сухроварди, багдадский шейх и поэт, основатель ордена сухровардия. Этот несуществующий сегодня орден был скорее философской школой материалистического направления, чем религиозной доктриной. Для проповеди своего учения отец направил молодого шейха Зайнутдина в Ташкент. Поскольку Зайнутдин пришел из Багдада, ташкентцы считают его арабом. На самом же деле, судя по имени Сухроварди, его предки были иранцами (в Иране и по сей день есть город Сухроверд), но в XII веке жили уже в Багдаде. А в начале XIII века Зайнутдин попал в Ташкент и остался в нем на всю жизнь.
Тогда весь Мавераннахр лежал в развалинах после монгольского нашествия. Города были уничтожены, Ташкент только отстраивался после многократных разрушений. В это тяжелое время особенно велика была роль духовных руководителей народа, одним из которых стал шейх Зайнутдин. Он не был ходжой и членом семьи Пророка, но прославился своей мудростью и ученостью, прожил почти до 90 лет и заслужил уважительное обращение Зайнутдин-бобо – «дедушка Зайнутдин». Большую часть своей жизни Зайнутдин-бобо провел в подземной двухэтажной келье за городом, на территории кладбища Вилоят. Говорят, он не поднимался оттуда годами, проводя время в молитвах о благе людей.
![келья в Ташкенте келья в Ташкенте]()
Подземная келья Зайнутдина-бобо, ХII в.
Эта келья существовала до него и хорошо сохранилась до сегодняшнего дня. Умер Зайнутдин-бобо в конце XIII века. До сих пор имя его окружено огромным почетом, а в столице Узбекистана живут его потомки.
Келья интересна не только своим возрастом. Фактически она представляет собой простейшую обсерваторию. Это достигнуто благодаря особому расположению центральных отверстий в нижнем и верхнем куполах. Отверстия находятся не на одной оси. Но если их соединить друг с другом прямой линией, то она будет лежать в плоскости ташкентского меридиана. Угол, который образует эта линия с горизонтом - это угол наивысшего подъема солнца над Ташкентом в день летнего равноденствия 22 июня. Находясь в нижнем помещении, можно один раз в год увидеть солнце днем или определенные небесные светила ночью. Ниши в стенах подземной комнаты показывают направление восьми румбов компаса.
![обсерватория обсерватория]()
Эти факты были обнаружены совсем недавно, в начале 90-х годов ХХ века, во время обмеров и ремонта здания. Тогда только стало понятно, почему раньше это селение называлось Холм Мудрых. Ведь обычные чилля-хона – буквально «комнаты для молитвы сорока дней» есть при многих мавзолеях. В них приходят, чтобы попросить о благе или совершить молитву. И только эта келья XII века является помещением, специально приспособленным для астрономических наблюдений.
В годы правления Амира Темура (1370 - 1405 гг.) территория Ташкента расширилась, развивались ремесла, торговля, культура. Великий правитель Мавераннахра пять раз (1363-1364, 1365, 1397 гг.) зимовал в Ташкенте. Он приказал укрепить город, недалеко у берега Сырдарьи воздвиг пограничную крепость Шахрухию, названную так в честь его младшего сына.В конце Х1У века началось строительство комплекса мавзолеев Занги-ата под Ташкентом. В настоящее время это очень популярное место у жителей Ташкента и Ташкентской области, известно оно и за пределами Узбекистана. Люди приезжают сюда, чтобы помолиться, совершить жертвоприношение, попросить об исполнении сокровенных желаний. Здесь похоронен Занги-ата (умер в 1258 году) – пятый шейх суфийского ордена яссавийа, основанного Хаджи Ахмадом Яссави. Настоящее имя святого – Айходжа ибн Ташходжа ибн Мансур, в обычной жизни он был пастухом, а из-за смуглого цвета кожи он получил в народе имя Занги - «чернокожий». Судя по приставке к имени - ходжа, он был потомком пророка по материнской линии. Основные годы его жизни пришлись на времена монгольского завоевания, которые были очень тяжелыми для Мавераннахра. Занги-ата, как настоящий мудрец-суфий, последователь суфийского ордена накшбандиев, помогал народу выжить в трудных условиях нашествия чужеземцев, постоянных войн и разрушений. Уже при жизни он пользовался огромным уважением.
![Ташкентский мавзолей Ташкентский мавзолей]()
По преданию, как-то Амиру Темуру приснился ангел, который велел отпустить свободно
пастись белую верблюдицу. Там, где верблюдица остановится, ляжет и умрет, под ее головой будет могила великого святого. Над ней обязательно надо построить усыпальницу. Темур на следующее же утро приказал отпустить белую верблюдицу и отправил за ней небольшой отряд воинов. Много месяцев продолжалось это странное путешествие по степи вслед за свободно пасущейся верблюдицей. И вот однажды совершенно здоровая любимица всего войска легла и умерла. Тотчас был отправлен гонец в Самарканд и сам Темур прибыл в это место. И действительно, прямо под головой верблюдицы были найдены останки очень высокого и, видимо, крупного, сильного человека. Рядом с останками были обнаружены и написанные им книги. Местные жители сообщили, что это Занги-ата - здешний, но очень давно почивший общественный пастух, который обратил в мусульманство все Поволжье, Сибирь и кочевые племена Средней Азии. Тогда Амир Темур лично отдал приказ о постройке мавзолея над могилой святого.
Строительство мавзолея началось сразу после смерти святого в 1390 году и было завершено в кратчайшие сроки. Его могила никогда не вскрывалась. Беломраморное надгробие с надписями и на нем и сама постройка подлинные и действительно относятся ко временам Амира Темура. А в годы правления его внука Улугбека (1409-1449 гг.) был достроен пештак – вход в мавзолей.
В зрелом возрасте Занги-ота познакомился с суфийским поэтом из Хорезма Сулейманом Бакиргани, которого также считал учителем. Когда Бакиргани умер, его жена, Анбар-биби, вышла замуж за Занги-ота, и они вместе творили богоугодные дела. Анбар-биби так же, как и ее муж, участвовала в деятельности ордена, прославилась как женщина-суфий. Умерла Анбар-биби позже мужа и была похоронена на том же кладбище. В конце ХIV - начале ХV века над ее могилой также был построен мавзолей. В нем, кроме самой Анбар-биби, похоронена ее первая свекровь – мать поэта Сулеймана Бакиргани. Мавзолей сильно пострадал от времени, но был тщательно восстановлен по старинным образцам. Говорят, что Занги-ота завещал паломникам сначала посетить усыпальницу его жены и и только потом входить к нему самому.
Старинное кладбище возникло здесь у пригородного селения еще в ХII веке. На нем похоронены многие известные люди, совершившие различные подвиги. Это, например, местный бий (судья), который в январе 1879 года возглавил охоту на тигра, тревожившего окрестных жителей.
В то время эти хищники в большом количестве водились в густых зарослях к югу и юго-востоку от Ташкента. Охота окончилась неудачно. Тигр напал на людей, смертельно ранил отважного зангиатинского бия и скрылся. Сегодня мавзолей Занги-ота – часть архитектурно-религиозного комплекса, объединяющего, кроме усыпальницы святого, поминальную мечеть, минарет для призыва верующих на молитву и медресе.
В Х1V веке началось сооружение исторического ансамбля мавзолеев и мечетей Шейхантаур. Сегодня Шейхантаур - официальное название одного из 9 крупных районов Ташкента. А в свое время так назывался прямоугольник между современными улицами Навои, Абдуллы Кадыри, Абая и Усмана Юсупова. Здесь располагались старинные жилые кварталы-махалля, большое кладбище и усыпальницы почитаемых в Ташкенте людей. По имени самого известного из них, шейха Ховенди ат-Тахура (Шейхантаура) (конец ХIII века – 1355 год) был назван весь этот район.
Шейх Ховенди ат-Тахур родился в старинном кишлаке Богустан, который существовал вблизи нынешнего поселка Бричмулла в Чимганских горах до строительства Чарвакской плотины. Его семья принадлежала к роду знаменитых ташкентских ходжей, потомков халифа Омара, ведущего свой род от пророка Мухаммеда. Отец Ховенди ат-Тахура, шейх Омар Богистоний будто бы обладал пророческим даром и умел повелевать стихиями. По одной из легенд, шейх Омар в 90-летнем возрасте вымолил себе у Бога сына. Произошло это на мазаре Хаст Имам при содействии Абу Бакра Каффаля. Узбеки верят, что святые являются посредниками между Богом и человеком: «Бог любит и слышит своих друзей».
![Ташкент Ташкент]()
Молодой шейх Ховенди ат-Тахур выполнял обряд послушания среди дервишей города Яссы (ныне - Туркестан), где уже в то время существовал культ великого поэта-мистика Средней Азии Ахмада Яссави. Биографы сообщают, что ташкентского дервиша особенно поразило одно из высказываний туркестанского святого: «Высокие духовные качества и познания в науках прямо пропорциональны терпению и кротости суфия по отношению к грубости невежд». После долгих странствий по всей Средней Азии шейх Ховенди ат-Тахур возвратился на родину, жил и учил в Ташкенте. Он снискал уважение своей просветительской деятельностью, заботой о сиротах и вдовах и остался в памяти людей мудрейшим из мудрых. Кроме того, он считается одним из основоположников суфийского ордена Накшбандия.
Мавзолей над его могилой был построен по указанию Амира Темура, который не раз посещал это святое место, и стал центром религиозной жизни города и паломничества многочисленных странников.
![Ташкент Ташкент]()
Могила шейха Ховенди ат-Тахура
Внук Ховенди ат-Тахура – известный деятель эпохи темуридов Убайдулла Ходжа Ахрар, построивший для Ташкента главную пятничную мечеть. Более отдаленные потомки Ховенди-ат-Тахура до сегодняшнего дня живут в Ташкенте.
Легенды связывают этот район и с пребыванием в Средней Азии Александра Македонского. В 328 году до н. э. войска Александра Македонского вышли из покоренного Самарканда, прошли безводную Голодную степь, переправились Мавзолей над его могилой был построен по указанию Амира Темура, который не раз посещал это святое место, и стал центром религиозной жизни города и паломничества многочисленных странников.
Внук Ховенди ат-Тахура – известный деятель эпохи темуридов Убайдулла Ходжа Ахрар, построивший для Ташкента главную пятничную мечеть. Более отдаленные потомки Ховенди-ат-Тахура до сегодняшнего дня живут в Ташкенте.Легенды связывают этот район и с пребыванием в Средней Азии Александра Македонского. В 328 году до н. э. войска Александра Македонского вышли из покоренного Самарканда, прошли безводную Голодную степь, переправились через Сырдарью и вступили в сражение с ополчением массагетских и сакских царей. Через Сырдарью в то время было 2 переправы. Одна - около города Ходжента на территории современного Таджикистана, практически у входа в Ферганскую долину. Вторая - в 68 километрах от Ташкента, там, где сейчас находится город Чиназ.
![греческие монеты монеты греческие]()
Историки сообщают, что Александр руководил битвой на берегу Сырдарьи, лежа на носилках. Он заболел во время перехода через степь, так как вместе с солдатами страдал от жажды и пил плохую воду. Потом великому завоевателю стало еще хуже, но его увезли куда-то на несколько дней лечиться, и он поправился. Когда в Самарканде возникло недовольство в войсках, полководец сумел попасть туда через три дня.
Если бы Александр переправлялся через реку у Ходжента, он вернулся бы в Самарканд гораздо быстрее, за день-полтора пути. Следовательно, перед битвой на Сырдарье он переправлялся возле Чиназа. А лечиться вполне мог в местности на территории современного Ташкента, где и сегодня из-под земли бьют целебные минеральные воды.
По преданию, великий полководец побывал у священного источника в местности, которую позже стали называть Шейхантаур. Он зачерпнул Воду Жизни и стал пить прямо из своего украшенного золотыми рогами боевого шлема. А там, где с кончиков рогов падали на землю капли драгоценной влаги, стали расти особые деревья местной хвойной породы саур. Вокруг чудесной рощицы затем возник культ Александра, которого на Востоке считают пророком и называют Искандером Двурогим. И хотя сауры являются долгожителями растительного мира, к XIV веку, когда был построен мавзолей шейха Ховенди ат-Тахура, они успели высохнуть и даже окаменеть.
Но и в таком виде аллея священных сауров Александра Македонского, похожих на скрюченные человеческие пальцы, торчащие из-под земли, очень почиталась и просуществовала в Ташкенте до 30-х годов ХХ века. Потом она была вырублена под предлогом борьбы с предрассудками. Сохранилось только одно дерево Искандера - внутри мавзолея Ховенди ат-Тахура.
![ташкентский ташкенский]()
В настоящее время источника на Шейхантауре нет, но они есть в других районах узбекской столицы. Известно, что в сейсмически активных зонах, к которым относится Ташкент, естественные выходы подземных геотермальных вод со временем могут менять свое расположение. Поэтому легенда о саурах Искандера Двурогого имеет под собой реальные основания
Вообще, Шейхантаур, овеянный старинными преданиями, был очень любим и горожанами, и приезжими. Сюда стремился каждый, кто хотел обрести душевный покой или приобщиться к древним таинствам. Главный вход со стороны нынешней улицы Навои был выполнен в виде высокой, квадратной в плане постройки, с четырьмя большими арками. Северная и южная арки были сквозными. Стрельчатый купол и аккуратные башенки - украшали это строение, называемое чортак. Пройдя массивные двустворчатые ворота, покрытые искусной резьбой, посетитель попадал на длинную, мощеную кирпичом площадку. Слева располагались чайхана и большой старинный водоем, справа - стены квартальной мечети и домов махалля Занжирлик. Она называлась так из-за подвешенных здесь тяжелых железных цепей, которые должны были препятствовать проникновению собак на территорию священного Шейхантаура.
С правой стороны от водоема у небольших ворот начиналась территория старинного кладбища, и стоял крупный старый карагач, увешанный рогами баранов и козлов, разноцветными лоскутками от одежды. Дерево считалось священным, оно будто бы вмещало дух Кучкар-ата, покровителя старогородского цеха мясников. Далее шла длинная дорожка, окаймленная с западной стороны аллеей окаменевших сауров Александра Македонского. Дорожка упиралась в выложенный кирпичом открытый коридор с очень невысокими стенами. Сквозь низкую арку куполообразной поминальной комнаты (зиерат-хоны), сооруженной еще в ХV веке шейхом Ходжой Ахраром, он приводил к главной святыне, мавзолею Шейхантаур, где расположено надгробие святого.
На кладбище вокруг святого мазара были погребены очень многие политические и общественные деятели Ташкента за последние несколько столетий. Это знаменитый восточный поэт века Зайнитдин Васифи, одна из жен Шейбани-хана Джамаль-ханум (надгробие 1518 года), основатель Ташкентского государства в ХVIII веке шейхантаурский хаким Юнус ходжа, Алимкул парваначи - кокандский полководец, защищавший Ташкент от войск генерала Черняева в 1865 году.
Но Шейхантаур был известен не только как место почитаемых захоронений, но и как крупный культурно-просветительский центр. В 80-е годы ХIХ века здесь было открыто первое «русско-туземное училище» для мальчиков, в котором одновременно с науками ислама преподавали математику, физику и другие естественные науки. Все предметы преподавались на узбекском языке. На основе идей просветительства народа путем соединения ислама и западной культуры возникло впоследствии движение джадидов.
Территория Шейхантаура была похожа на цветущий сад, поэтому его всегда любили рисовать художники, а чайханах читали стихи поэты. Здесь не раз бывал Сергей Есенин во время своего приезда в Среднюю Азию в 1921 году. Ему очень нравился Шейхантаур, здесь зародился его знаменитый цикл «Персидские мотивы».
В 20-е годы ХХ века в медресе Ишанкула Дадхо, которое находилось на улице Навои справа от входа в Шейхантаур, заработала киностудия «Узбекфильм» и начали сниматься первые узбекские фильмы. В годы второй мировой войны здесь в эвакуации находился «Мосфильм». Именно на Шайхантауре снимался знаменитый фильм «Два бойца», и Марк Бернес пел свою знаменитую «Темную ночь» не под сводами блиндажа, как кажется зрителям, а под куполом медресе Ишанкула. К сожалению, в 30-е годы ХХ века, в разгар борьбы с религией, большая часть этого замечательного ансамбля, в том
![ташкентское медрессе ташкентское медрессе]()
Медресе Ишанкула Дадхо
числе старинные надгробия и аллея священных сауров Александра Македонского были уничтожены. А после землетрясения 1966 года вообще было запланировано снести все постройки и застроить это место современными многоэтажными домами. Но несколько граждан, возглавляемых бывшим председателем Совета Министров Узбекистана Абдурахмановым, обратились лично к главе государства Шарафу Рашидову с просьбой сохранить то, что осталось от Шейхантаура, и его сохранили и даже отреставрировали.
Сегодня из семнадцати памятников прежнего Шейхантаура осталось только три, и расположены они на очень небольшой площади. Это, кроме упоминавшегося мавзолея шейха Ховенди ат-Тахура, мавзолей Калдыргоч-бия и мавзолей Юнус-хана моголистанского.
Мавзолей Калдыргоч-бия (XV век) - единственный мавзолей в Ташкенте, покрытый коническим ребристым куполом, характерным для построек в степных и пустынных районах. Здесь покоится знаменитый судья Толе-бий, один из прародителей казахов, оставшийся в памяти народа под романтическим прозвищем Калдыргоч-бий – ласточка, и связанной с ним легендой. Говорят, что глава казахского рода дуглат, кочевавшего к северу от Ташкента, Толе-бий обладал даром ясновидения. За неделю до наступления калмыков-завоевателей он уговорил жителей близлежащих селений покинуть свои дома и спрятаться в рукотворном тоннеле, идущем от Ташкента до города Яссы (ныне Туркестан). Размеры тоннеля были такими, что в нем могли ехать навстречу друг другу по четыре всадника в ряд. Считается, что этот тоннель существует и поныне, только вход в него затерялся в веках.
Когда люди ушли, судья остался в пустом селении. Враги вошли в него, но нашли только старика, который сидел у костра в своей юрте. Начали спрашивать, почему он не ушел со всеми. Старик ответил, что у него гости, а когда гости в доме, хозяин не может их покинуть. И показал на ласточку, которая свила гнездо и вывела птенцов у верхнего отверстия юрты.
Легенда гласит, что судью пощадили, потому что он поступил как настоящий хранитель Адата, очень древнего обычая, по которому живут люди в степи. А восхищение калмыков смелостью и святостью Толе-бия было столь велико, что их грозный правитель попросил судью разделить с ним трапезу и почтить ученой беседой. С тех пор Толе-бия стали называть Калдыргоч-бием - беком - Ласточкой. Впоследствии Калдыргоч-бий изгнал из окрестностей города калмыков -
буддистов-завоевателей.
![Мавзолей Калдыргоч-бия Мавзолей Калдыргоч-бия]()
Мавзолей Калдыргоч-бия, ХV в.
После этого горожане призвали его стать правителем Ташкента, а когда он умер, похоронили с почестями.
Эти события происходили в 40-е годы XVIII века. Однако здание мавзолея относится к XV веку, то есть существовало задолго до подвигов Колдыргоч-бия. В нем есть несколько более ранних захоронений, но кому они принадлежат – неизвестно.
Третий сохранившийся до наших дней памятник Шейхантаура - мавзолей Юнусхана (XVI век) находится на территории Государственного Исламского Университета. Он построен в память ташкентского правителя Юнус-хана моголистанского (1415-1487 годы), прямого потомка Чингиз-хана, родного деда великого поэта и государственного деятеля Бабура (1483-1530 годы), основателя государства Великих Моголов в Индии.
Как пишет сам Бабур в своих мемуарах, он неоднократно посещал Ташкент и совершал на Шейхантауре традиционный обряд поклонения предкам.
Большой двухэтажный мавзолей имел свои архитектурные особенности, например, ревак – колоннаду на фасаде. Однако он был сильно разрушен и восстанавливался в 70-е годы ХХ века. Так как чертежей мавзолея не сохранилось, первоначальный облик постройки воссоздать не удалось.
Кроме того, в Шейхантауре в 1996 году была построена мечеть необычной круглой формы, предназначенная специально для совершения зикров – особой молитвы дервишей в большом кругу. Это сделано потому, что Шейхантаур считается относящимся суфийскому ордену накшбандия. У накшбандиев запрещен громкий зикр, и они совершают молитву вдали от посторонних глаз. Каждую субботу, рано утром в круглой мечети на Шейхантауре собираются современные суфии для совершения своего мистического обряда, своеобразной медитации, которая продолжается более часа.
К ХV веку относится сооружение еще одного замечательного памятника средневековой архитектуры - главной пятничной мечети Ташкента (джума-мечети), связанное с именем знаменитого шейха, главы духовенства эпохи Темуридов Убайдуллы Ходжи Ахрара (1404-1490 годы). Убайдулла Ходжа Ахрар – внук Ховенди ат-Тахура по материнской линии, тоже потомок пророка, также родился в кишлаке Богустан. Проучившись недолго в разных медресе Ташкент и Самарканда, он с посохом в руке отправился в многолетнее странствие по обширной империи Темуридов. Молодой человек во время этого «хождения в люди» превратился в уважаемого и почитаемого руководителя верующих, стал главой суфийского братства. В 1430 году в Гиссарских горах он принял посвящение (иршад) от самого старца Якуба Чархи, ученика и последователя прославленного бухарского философа Бахауддина Накшбанди, на право быть учителем суфийского ордена накшбандиев.
![Мавзолей Юнусхана Мавзолей Юнусхана]()
Мавзолей Юнусхана, ХVI в.
В 1432 году Ходжа Ахрар вернулся в Ташкент, где очень много делал для распространения идей накшбандиев. Он учил, что задача суфия заключается не только в собственном спасении, но и в духовном спасении всего мира, чего нельзя достигнуть, если отречься от мирских забот. Его учение о необходимости участия суфиев в общественной жизни имело большое значение для Средней Азии. Шейх и сам много лет жил крестьянским трудом и снискал всеобщее уважение. В 1451 году правнук Амира Темура мирза Абу Сейид специально приехал в Паркент, в летнее жилище Ходжа Ахрара перед сражением за самаркандский трон. Ходжа Ахрар предсказал ему полную победу и благословил на престол. Победив в бою, Абу Сейид осыпал милостями ташкентского шейха и пригласил его в Самарканд воспитывать своих сыновей.
Ходжа Ахрар пользовался огромным авторитетом, состоял в дружеской переписке с самыми знаменитыми людьми своей эпохи – Алишером Навои и Абдурахманом Джами, часто выступал в роли миротворца. Он прожил в почете и богатстве до глубокой старости и умер в 1490 году. Его могила находится в Самарканде и почитается как святое место. Покидая Ташкент, Ходжа Ахрар был уже очень богатым человеком. На свои средства он повелел построить в дар родному городу большую
пятничную мечеть и медресе в древней ташкентской махалле Гульбазар. Он же основал в городе культ святого Шейхантаура, своего предка.
Мечеть была возведена в середине XV века на холме-прародителе Ташкента, в классических пропорциях и традициях. В то время по своим размерам она находилась на третьем месте среди всех мечетей Мавераннахра после Биби-ханым в Самарканде и Калян в Бухаре.
Тогда мечеть Ходжа Ахрара выглядела, как Кааба – святыня всех мусульман в Мекке. Это было кубическое здание с резным мраморным михрабом – украшенной резными надписями нишей, которая всегда показывает направление в сторону Мекки. Куб был покрыт одним огромным куполом высотой 15 метров.
Центральный вход в мечеть, оформленный невысоким порталом, находился со стороны улицы Гульбазар – главной улицы древнего Ташкента. К главному зданию примыкал длинный прямоугольный двор, окруженный со всех сторон одноэтажной галереей с худжрами – комнатами для студентов. Маленькие башенки-гульдаста в углах здания предназначалмсь для азанчи (муэдзинов) - специальных служителей, призывающих правоверных к намазу (молитве).
Ташкент, как известно, стоит вблизи гор, в сейсмически опасной зоне. Поэтому многие средневековые монументальные здания часто страдали от ударов подземной стихии, иногда даже полностью разрушались. Не избежала частых реставраций и пятничная мечеть. Например, в ХУШ веке, в период расцвета самостоятельного Ташкентского государства под управлением шейхантаурского хакима Юнуса Ходжи, основательно был отреставрирован главный куб и полностью перестроены сводчатые галереи с кельями вокруг длинного двора.
Серьезный ущерб мечети сильно нанесло разрушительное землетрясение 1868 года. Соборная мечеть выбыла из строя почти на два десятка лет. Только в 1888 году она была окончательно восстановлена на средства, предоставленные российским императором Александром III, поэтому в народе ее стали называть «Царской мечетью». И хотя внешний облик здания при реконструкции пришлось несколько изменить, оно, как и раньше, производило весьма внушительное впечатление.
Сегодня главная действующая джума-мечеть Ташкента полностью реконструирована и теперь не один, целых три больших купола венчают исторический старогородской холм. Напротив старого центрального входа в мечеть, который ранее находился на северной стороне, стояло возведенное в 1452 году скромное одноэтажное медресе. Теперь оно не существует, так как в 1954 году городские власти вздумали разобрать его на кирпичи, необходимые для реставрации соседних зданий. Сейчас купола мечети покрыты кровельным железом, чего никогда раньше в Ташкенте не делалось. Их выкладывали из жженого кирпича (это особое искусство, сейчас утерянное) и либо оставляли в таком виде, либо покрывали майоликой. Надписи на фасаде тоже современные. Но в мечети сохранился в первозданном виде михраб примерно 1451 года, с надписями, сделанными во времена Ходжа Ахрара.
Таким образом, на период правления Амира Темура и Темуридов приходится расцвет средневековой архитектуры в Ташкент, чему в немалой степени способствовало прекращение кровопролитных войн и междоусобиц. Вместе с тем, в ХV веке, после смерти Темура, город вновь стал яблоком раздора, на этот раз - между его наследниками и монгольскими ханами. Сами Темуриды неоднократно предпринимали военные походы на Ташкент: в 1406 году Ташкент пытался взять штурмом внук Амира Темура - Халил-султан, трижды - в 1416, 1419 и 1425 годах совершал походы на Ташкент другой его внук - правитель Мавераннахра Улугбек.
![Соборная джума-мечеть Соборная джума-мечеть]()
Соборная джума-мечеть Ходжи Ахрара, ХV в.
С 1503 года Ташкент стал частью государства кочевых узбеков, возглавляемых правителем Мухаммадом Шейбани-ханом, происходившим от Чингиз-хана. Главой этого государства считался султан Самарканда. Правители других городов Средней Азии, его родичи, являлись вассалами. Династия султанов Ташкента, чингизидов по отцовской линии и темуридов – по материнской, пользовалась особенным авторитетом в Мавераннахре. Однако единство государства Шейбанидов было непрочным. Со смертью Шейбани-хана (1510 год) центральная власть в нем настолько ослабла, что большинство эмиров (беков) и султанов признавали нескольких последующих ханов лишь номинально. В 40-х годах ХVI века усилились межфеодальные и династические войны за владение уделами и городами Мавераннахра.
В обстановке углубляющейся феодальной раздробленности, взаимной вражды и недоверия в правящих кругах Абдулла-хан II (1557-1598 годы) сумел постепенно объединить разрозненные области Мавераннахра и подчинить своей власти удельных правителей. В частности, в 1582 году (после седьмого похода) был покорен Ташкент, принадлежавший Дервиш-хану. По словам историографа Хафиза Таныша, Абдулла-хану П вначале удалось захватить Ташкентский оазис лишь временно. При этом те, кто оказывал сопротивление и упорно отстаивал самостоятельность, «расстались с женами, детьми и имуществом». С жителей была собрана большая контрибуция, часть ташкентцев была выселена. Тем не менее, когда в местности Каракамыш (ныне жилой массив города под этим же названием) встретились войска Абдулла-хана П и Дервиш-хана, Абдулла-хан вынужден был признать своего противника правителем Ташкента с прилегающими землями.
Однако междоусобные войны продолжались и вызвали новые походы Абдулла-хана на Ташкент, которые имели губительные последствия для экономики города и привели к разорению и обнищанию населения. Историк Бадриддин Кашмири отмечает, что жители осажденного Ташкента «испытывали голод», а правитель высказывал тревогу за то, что если войска Абдулла-хана П подойдут к городу, это приведет к разорению всей области. Хафиз Мукими, автор «Зафар-намэ» рассказывает, что по приказу Абдулла-хана П были уничтожены здания, кварталы (махалля), базары, дворцы Ташкента, а также полностью разрушены подвластные этому городу Чиназ, Шахрухия и другие, а их жители были переселены в окраинные земли областей, так что «… весь народ в большинстве (своем) оказался в плену».
Таким образом, борьба за объединение страны и упрочение центральной власти сопровождалась почти непрерывными походами, осадами городов, переходом их из рук в руки, дополнительными поборами с населения и общим разорением страны. Вместе с тем население все более понимало, что именно объединение страны может способствовать устранению междоусобиц и экономическому, культурному развитию страны. Политика централизации, проводимая Абдулла-ханом П, получила поддержку в различных слоях населения и в конечном итоге привела к созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства, ремесла, внутренней и внешней торговли, культурному подъему в государстве.
Благодаря этому, к концу ХVI века Ташкент разросся, украсился многими монументальными сооружениями, установил прочные торговые связи с другими странами, в том числе с Московским государством, где был известен под искаженным названием Ташкур.
Одним из наиболее известных архитектурных памятников Ташкента, относящихся к ХVI веку, является медресе Кукельдаш, построенное при шейбаниде Дервиш Мухаммад-хане. В настоящее время – действующее исламское учебное заведение.
Медресе находится рядом с мечетью Ходжи-Ахрара, на том же холме, где в IХ веке был основан современный Ташкент. Появилось медресе примерно на сто лет позже мечети Ходжи Ахрара, в 60-е годы ХVI века. Рассчитанное для обучения 38 студентов, это было самое крупное из семнадцати подобных учебных заведений, существовавших тогда в Ташкенте.
Построено медресе очень традиционно - именно так обычно выглядит медресе в мусульманской стране. Фасад имеет украшенный майоликой и надписями высокий парадный арочный вход - пештак. Окна снабжены солнцезащитными решетками - панджара, в узорах орнаментов мы находим священные для мусульман имена Аллаха и пророка Мухаммада. Пройдя пештак, посетитель попадает во двор прямоугольной формы, окруженный анфиладами сводчатых комнаток - худжр, двери которых выходят вовнутрь. Двор замыкает более крупное купольное здание - дарсхона (комната для занятий). Худжры служат жильем для студентов, занятия же, как правило, проводятся под открытым небом во внутреннем дворике.Медресе было сильно разрушено землетрясением 1868 года и его ремонтировали много раз. Это первое здание среди памятников архитектуры Узбекистана, которое начала восстанавливать советская власть в 1923 году. Многочисленные переделки изменили первоначальный облик медресе и хотя внутри еще остались кирпичи ХVI века, снаружи оно уже не имеет старинного средневекового формата. Так, старожилы Ташкента помнят, что первоначально минаретов на медресе не было. Были плоские башенки, похожие на срезанные цилиндры, минареты достроены совсем недавно. Весь декор тоже новый. Из старых надписей осталось только несколько строчек над входом, сделанных почерком «насталлик».
Медресе Кукельдаш еще известно тем, что в одной из его келий в конце ХIХ века жил узбекский поэт Фуркат, бежавший в 1889 году из Коканда в Ташкент. В ХVI веке также началось сооружение историко-религиозный комплекса Хаст Имам, который в настоящее время является действующим религиозным центром.
![Медресе Кукельдаш Медресе Кукельдаш]()
Медресе Кукельдаш, ХVI в.
Хаст Имам - это произношение тюрками иранских слов Хазрат-и-Имом – великий имам. Люди называли так Абу Бакра Исмаила Каффаля аш-Шаши (начало Х века – 976 год), очень образованного человека, который внес огромный вклад в дело распространения ислама в Средней Азии. Абу Бакр Исмаил Каффаль аш-Шаши родился в начале Х века в Ташкенте, учился в Багдаде, в академии Байт ал-хикмат. Этим учебным заведением одно время руководили выходцы из Средней Азии. Ее ректором был, например, знаменитый астроном аль-Фергани. Закончив академию, Абу Бакр вернулся в Ташкент. Существует много философских направлений, связанных с толкованиями священных текстов, но только четыре из них считаются каноническими. Одно из таких направлений называют шафиитским, по имени Имама аш-Шафии, одного из первых имамов (предводителей верующих) мусульманского мира. Последователем этого учения, которое сейчас встречается достаточно редко, был Абу Бакр Каффаль. Его книги с толкованиями Корана изучают даже в современных мусульманских учебных заведениях. Абу Бакр Каффаль считается духовным учителем знаменитого Ахмада Яссави, поэта и философа. Огромной заслугой Абу Бакра было приобщение тюрков к исламу. В годы его жизни началось массовое проникновение в Среднюю Азию тюрков-караханидов. Тогда эти предки современного узбекского народа еще не были мусульманами. Абу Бакр был одним из тех, кто своим подвижничеством обращал тюрков в ислам. Он умер почти тысячу лет назад, в 976 году. И хотя он был обыкновенным горожанином и не имел никакого титула, его называют Хазрат-и-Имом – великий имам, считают главным святым покровителем Ташкента и рассказывают о нем легенды.
По одной из таких легенд, в Мекке из шахской казны стало пропадать золото. Вор был неуловим. Тогда падишах повелел найти самого искусного кулбдаста - изготовителя замков и запоров. Выбор пал на мастера по имени Абу Бакр, из далекого города Шаш. Прибыв в Мекку, он приступил к работе. Замки и запоры, которые он сделал, были надежны, красивы, но главное – пропажи из казны прекратились.
На радостях падишах предложил кулбдасту половину казны в награду. Но мастер попросил только одну книгу – Коран халифа Османа. Падишах не смог отказать ему, и в тот же день Абу Бакр отправил книгу с караваном в Шашкент, вложив ее в сделанную им шкатулку с хитроумным запором в форме седла для верблюда. Когда главный везирь узнал, что именно попросил в награду кулбдаст, он бросился в ноги падишаху: «Мой господин, верните его, отберите книгу, единственное истинное достояние страны, ведь она приносит нам благо».
Абу Бакр находился еще в Мекке, но Корана с ним не было. Не было его и ни в одном караване из тех, которых по приказу падишаха задерживали в пути. На все вопросы о местонахождении Корана мастер отвечал, как и подобает истинному суфию: «Я отправил его с Его помощью».
В конце концов, Абу Бакра пришлось отпустить. Он вернулся домой, приобретя прозвище «Кафоли аш-Шаши» – «Умнейший из города Шаш», а Мекка попрощалась со своим Кораном, который сегодня хранится в библиотеке восточных рукописей Главного духовного управления мусульман Ташкента.
После смерти Абу Бакра Каффаля аш-Шаши над его могилой был воздвигнут мавзолей, вокруг которого и возник исторический комплекс Хаст-Имам. Находившийся тогда далеко за городской стеной, он считается святым местом.
![Мавзолей Абу Бакра Каффаля аш-Шаши Мавзолей Абу Бакра Каффаля аш-Шаши]()
Мавзолей Абу Бакра Каффаля аш-Шаши, ХVI в.
Первый мавзолей Абу Бакра Каффаля аш-Шаши, построенный вскоре после его смерти, быстро разрушился. Второй также не выдержал времени и частых землетрясений. До наших дней дошли только постройки, относящиеся к XVI веку, о чем имеется надпись на фасаде. Внутри мавзолея и во дворике за ним похоронены уважаемые жители города. В прежние времена вокруг было огромное кладбище. В советское время его разрушили. А из сохранившихся старых кирпичей и мраморных фрагментов надгробий в 20-е годы ХХ века была построена арка перед мавзолеем. Плитами из прежних мавзолеев вымощена площадка перед аркой. Когда-то все здание было покрыто майоликой. Сейчас на нем лишь местами сохранились фрагменты узора и надписей. Надписи, сделанные белым и золотым, можно отреставрировать, потому что это суры из Корана, их текст является каноническим. А вот зеленые надписи восстановить нельзя, потому что это текст о самом мавзолее – кто и когда его построил, для чего, рассуждения о благости этого места и т.д.
![Ташкентские двери Ташкентские двери]()
Здесь можно увидеть самую древнюю панджару (решетка на окнах) в Ташкенте, которой 500 летстаринные двери XVI века. Интересно, что на левой двери есть священная надпись, а на правой нет, она как будто срезана. Существует предание, что это последствия нападения на Ташкент калмыков-буддистов. В 1723 году калмыки штурмовали Ташкент, и в этом здании заперлись защитники города. Нападавшие пытались выкурить их дымом, а священные надписи на правой двери срезали саблями.
Кроме мавзолея, в комплекс Хаст Имам входят старинное медресе Барак-хана, мечети Намазгох и Тилля Шейх, а также библиотека восточных рукописей Духовного управления мусульман.
Медресе Барак-хана (XVI век) - самое старое сохранившееся здание учебного заведения в Ташкенте. Однако оно уже давно не используется как медресе. В советское время в нем находилась резиденция религиозных лидеров Средней Азии, сейчас размещается канцелярия верховного муфтия - главы мусульман Республики Узбекистан.
А в XV-XVI веках в этих местах зеленел загородный сад под названием Боги Кейкаус. В нем любили раскидывать свои шатры султаны Ташкента, кочевники-шейбаниды. Здесь проходили собрания (мажлисы) придворных поэтов, которые блистали остроумием и читали свои стихи. Здесь и хоронили ташкентских правителей. Чтобы почтить их память, над могилами был возведен мавзолей, а в 1541 году в него было встроено здание медресе. Его строительство велось на средства ташкентского султана Науруз Ахмеда, носившего прозвище Барак-хан. Позднее Барак-хан был избран правителем всего Мавераннахра. Умер он в Самарканде.Другое название этого медресе - Кок Гумбаз, что означает «голубой купол». Здание было увенчано высоким голубым куполом, который придавал всему ансамблю стройность и соразмерность. Вокруг купола шла выложенная цветной майоликой надпись, взятая из поэмы о Ташкенте. Ее написал в 1515 году знаменитый восточный поэт Зайниддин Васифи, восхищенный красотой города. Васифи был первым ректором (мударрисом) медресе и воспитателем Барак-хана.
![Медресе Барак-хана Медресе Барак-хана]()
Медресе Барак-хана, ХV1 в.
Здание и купол Кок Гумбаз разрушились во время сильного землетрясения 1868 года. Знаменитый Кок Гумбаз так и не был восстановлен, хотя в послевоенные годы медресе Барак-хана реставрировали. В реставрации принимал участие знаменитый резчик по ганчу, академик Усто Ширин Мурадов. Был сохранен традиционный стиль постройки – вход - пештак, украшенный надписями, где зашифрована дата возведения медресе.
Мечеть Намазгох (XVIII век). Намазгох дословно означает «место молитвы». Это особый вид мечети, предназначенный для совершения молитвы во время праздника летнего жертвоприношения Идд аль-Фитр. На этот праздник мусульмане обязательно должны молиться среди близких людей. Чтобы те, кто оказался вдали от дома - купцы, торговцы, воины - смогли выполнить свои религиозные обязанности, и строится мечеть Намазгох. Такие мечети есть в каждом мусульманском городе, часто за городской стеной, и используются они только раз в году. Ташкентская мечеть Намазгох была построена для путешественников, купцов и воинов кокандского гарнизона, которые служили в Ташкенте.
Сейчас в этом здании находится мусульманский институт имени имама аль-Бухари, открытый в 1996 году. Это единственное мусульманское высшее учебное заведение, которое действовало в Узбекистане в советское время. Еще одно медресе, среднее, находилось в Бухаре. Мечеть Тилля шейх (XVIII век). Тилля шейх означает Золотой шейх. Это бывшая главная мечеть Узбекистана она была построена в XVIII веке и находится напротив резиденции муфтия. Мечеть действует и сегодня.
![Мечеть Тилля шейх Мечеть Тилля шейх]()
Мечеть Тилля шейх, VIII в.
В историко-религиозный комплекс Хаст Имам входит также Библиотека восточных рукописей муфтията (XVIII – XIX век). Здание библиотеки находится во дворе мечети Тилля Шейх. Оно построено в стиле, достаточно характерном для Ташкента. На крыше находится своеобразный «фонарь» из дерева с остекленным верхом. Это позволяет освещать естественным светом здание, в особенности читальный зал, который находится на галерее второго этажа.
![Библиотека муфтията Библиотека муфтията]() Библиотека муфтията
Библиотека муфтията
Эта библиотека знаменита, прежде всего, тем, что в ней хранится мусульманская святыня - подлинный Коран халифа Османа со следами крови на страницах, первоисточник мусульманской религии. Это единственный сохранившийся в мире экземпляр из четырех первых книг, собранных из записей речей и проповедей пророка со слов очевидцев.
Других таких Коранов в мире нет. Именно для него по приказу Улугбека была сделана каменная подставка, находящаяся сегодня во дворе медресе Биби Ханум в Самарканде. Его можно увидеть через пуленепробиваемое стекло массивного сейфа в библиотеке муфтията. Коран достают из сейфа строго по указанию муфтия только для специальной обработки или в особо важных случаях.
![Коран в Ташкенте Коран в Ташкенте]()
Каким образом попал этот Коран в Узбекистан, точно не известно, на этот счет существует несколько версий и преданий. Как известно, пророк Мухаммед, родившийся в 570 году, проповедовал свое учение с 610 года до самой смерти в 632 году. Он не владел грамотой, но проповеди, которые он произносил в стихотворной форме, хорошо запоминались, и многие знали их наизусть. Но Пророк закончил свою земную жизнь, а из-за частых войн стало быстро уменьшаться число людей, которые сами видели Мухаммеда и слышали, а главное, запомнили дословно проповеди основателя ислама. После одного из крупных сражений, примерно в 650 году, об этом задумался халиф Осман – третий преемник пророка Мухаммеда, женатый на его дочери Наиле. Он вызвал приемного сына пророка Зейд ибн Сабита, который знал четыре языка и в молодости был переводчиком и личным секретарем Мухаммеда, записывая его речи. Этот уже пожилой человек, в свою очередь, призвал еще нескольких верных учеников Пророка, которые помнили его проповеди или хранили черновики с их записями. Они работали целый год, выбирая только те тексты, которые подтверждались независимыми друг от друга источниками, а остальные уничтожили, запретив распространять их под страхом смерти. Отобранные записи, или суры, и составили священную книгу ислама – Коран. Суры были скомпонованы не по смыслу или хронологии, а по размеру - от самых больших до самых маленьких. Эти проповеди Зейд ибн Сабит переписал лично, потом с них было изготовлено еще три официальные копии, и таким образом, появились четыре первых канонических экземпляра Корана.
![Коран в Ташкенте Коран в Ташкенте]()
Все это происходило в столице арабского халифата - в городе Медине. Один экземпляр оставили в Медине, а три были отправлены для просвещения верующих в города Куфу, Басру и Дамаск. Но со временем все три копии погибли, осталась только та, которая хранилась при дворе самого халифа Османа. Он не расставался со священной книгой. Когда противники в 656 году подняли восстание и осадили его дом, он, по преданию, читал тот самый первоначальный список Корана. Вот как рассказывает об этом драматическом эпизоде Август Мюллер в своей книге «История ислама»: «Невозмутимо продолжал он, невзирая на бряцание оружия, читать дальше Коран, подкрепляясь бодро словом божьим… . Когда толпа убийц ворвалась, в первый момент никто не осмелился дотронуться до седой головы халифа… Его заслонила собой жена Наиля, она старалась рукой отразить меч, и ей обрубили пальцы. Вслед за тем брызнула фонтаном кровь зятя Пророка - его наместника, и залила страницы святой книги, которую умирающий крепко прижимал к груди…»
С того момента Коран, залитый кровью халифа Османа, стал одной из святынь халифата и всегда находился при дворе повелителей - в Медине, а затем в Дамаске и Багдаде. Точно неизвестно, где хранилась рукопись после трагических событий 1258 года, когда был убит монголами последний багдадский халиф. Но в Среднюю Азию священная книга попала благодаря Амиру Темуру, который во всех покоренных странах собирал ценные рукописи для своей библиотеки в Самарканде. Возможно, Коран был захвачен его войсками в 1393 году при штурме Багдада. По другой версии, багдадские халифы в 1262 году отправили рукопись в числе других богатых даров ханам Золотой Орды, когда они приняли ислам. В 1395 году Амир Темур разгромил столицу Орды, город Сарай Берке на Волге. В это время он также мог овладеть Кораном и привезти его в Самарканд.
Священная реликвия хранилась в Самарканде почти четыреста лет. Считается, что это единственная книга, оставшаяся от библиотеки, собранной Амиром Темуром со всего Востока и бесследно исчезнувшей во второй половине XV века.
Когда в 1868 году Самарканд был завоеван Российской империей, на знаменитый Коран обратил внимание генерал-губернатор Туркестанского края К.П. фон Кауфман. Книга, хранившаяся при поминальной мечети Ходжи Ахрара, была конфискована (в печати, правда, сообщалось не о конфискации, а о покупке манускрипта за 100 золотых рублей) и отправлена в Санкт-Петербург, в императорскую публичную библиотеку. Генерал-губернатор получил за это звание «почетного члена императорской публичной библиотеки».
Исследования российских ученых доказали подлинность рукописи. Даже скептически настроенные исследователи отнесли ее создание к концу VII века, то есть ко времени, почти совпадающему с гибелью халифа Османа. На книге действительно есть бурые пятна крови. Она состоит из 353 пергаментных листов размером 68 на 53 сантиметра. 69 недостающих утерянных листов еще в древности заменены бумажными вставками, имитирующими пергамент. На каждой странице черной и красной тушью записано по 12 строк первоначального канонического текста Корана - проповеди Пророка, записанные очевидцами.
После Октябрьского переворота Коран был возвращен верующим. Сначала, в 1919 году, он попал в Уфу, где был центр советского ислама. Однако мусульмане Туркестана не раз обращались с просьбами вернуть Коран туда, где он хранился несколько столетий. В 1923 году на специальном поезде Коран был перевезен в Ташкент и долгое время оставался в Государственном историческом музее. После обретения Узбекистаном независимости священная книга при огромном стечении людей на площади Хаст Имам была передана Президентом И. А. Каримовым в библиотеку муфтията. Сегодня этоединственный сохранившийся в мире первоначальный список Корана. Все остальные Кораны - копии, сделанные через 50, 100, 300 лет и позже. История этой священной книги как бы подтверждает известную латинскую пословицу: «Habent sua fata libelli» - «Книги имеют свою судьбу». Кроме этой реликвии, в библиотеке есть на что посмотреть. Ее собрание насчитывает около 30 тысяч рукописей и печатных книг. В основном это редкие издания Корана, Хадисы - рассказы из жизни пророка, которые записывали его последователи и которые также считаются священными текстами. Значительную долю фонда составляют богословские произведения – тафсиры. Это толкования Корана, писать которые имеет право каждый ученый мусульманин.Внутренний интерьер библиотеки в 1993 году был отреставрирован, при этом на декор резных колонн и потолка ушло около 3 килограммов золота. Потолок выполнен из дощечек в форме книжных переплетов - очень традиционная для Ташкента отделка. Существует поверье, что если маленький ребенок, лежа в колыбели, будет видеть над собой книги, он всю жизнь будет тянуться к знаниям.
В целом роль Ташкента в ХVI веке значительно возросла. Он являлся центром административного управления и экономической жизни области, внешней и внутренней торговли, транзитным пунктом для товаров, поступавших из других городов, областей и стран. Это был сравнительно густонаселенный город, значительную часть населения которого составляли торгово-ремесленные элементы. Здесь жили и работали мастера, изготовлявшие металлические (в том числе медные) и гончарные изделия, разнообразные ткани и одежду из них, оружие и многое другое. В Ташкенте вырабатывались кожи и кожаные изделия, особенно обувь, отсюда вывозились седла из лошадиных шкур. Развитие многих ремесел в значительной мере обусловливалось соседством с кочевой степью. Далеко за пределами оазиса издавна были известны чачские (ташкентские) кони и луки. К началу ХVI столетия относится упоминание «чачских луков» Бабуром.
![Ташкент Ташкент]()
Город был окружен оборонительной стеной. Вокруг него располагались сады и виноградники. Вне крепости Ташкента находился чарбог (чахорбог) Кайкаус. Современники характеризуют его как «место трона великих султанов» и резиденцию правителей Ташкента. Здесь проводились литературные диспуты, пиры и увеселения. До наших дней сохранились названия отдельных кварталов этой части города. В городе и пригородах находились караван-сараи, куда прибывали купцы из разных стран. Соседние правители, предводители феодальных ополчений и вожди кочевых племен постоянно обращали свои взоры на богатства города и области и делали попытки подчинить их, а в случае неудачи довольствовались грабежами мирного населения. Начиная с 1588 года борьбу с правителями Мавераннахра за обладание Ташкентом с переменным успехом развернули степные казахские султаны, на время присоединяя его к своим владениям.
В 1613 г. бухарский правитель Имамкули-хан из династии Аштарханидов, пришедшей к власти в Мавераннахре на смену Шейбанидам, сумел разбить казахов, захватить Ташкент и посадить там наместником своего сына Искандера-султана. Но едва Имамкули-хан покинул Ташкент, как жители, возмущенные поборами и притеснениями, восстали и убили наместника. Узнав об этом, Имамкули-хан выступил в поход во главе большого войска. В отмщение за смерть сына хан поклялся, что после взятия Ташкента он не прекратит избиение горожан до тех пор, пока кровь не дойдет до стремени его коня. После месяца осады Ташкент был взят, и бухарцы учинили в нем такую резню населения, сто даже начальники собственного войска Имамкули-хана стали просить его прекратить избиение ни в чем не повинных людей, но он заявил, что не может нарушить данной им клятвы. Тогда ташкентские законоведы предложили хану въехать на коне в водоем, где бы вода, окрашенная кровью убитых, доходила до стремени его коня. Тем самым хан выполнил свою клятву и приказал прекратить кровопролитие.
Такие испытания выпадали на долю ташкентцев неоднократно. В первой половине XVIII века и казахскую степь, и Ташкент подчинили джунгары (калмыки) – кочевники из Северного Китая. Они овладели огромной территорией от Центральной Монголии до Иртыша, Аральского моря и Сырдарьи. Ташкент, как крупнейший оазис оседлой культуры, был для них важным источником доходов. Для закрепления прочной власти над городом они даже предпринимали попытки обратить население в ламаизм - разновидность буддизма. В интересах казны впервые в Средней Азии была проведена перепись домовладений (в мусульманских странах перепись считалась греховным делом).
В ответ на угнетение и притеснения со стороны джунгарских феодалов и их наместников возникло многолетнее освободительное движение, которым руководил вождь казахского рода дуглат Толе-бий. А в 1758 году государство джунгар было разгромлено Китаем. Толе-бий стал правителем Ташкента. Одновременно возник и своего рода городской «магистрат», который занимался хозяйственными и торговыми делами.
Начиная с IX-X веков, город делился на четыре крупных района - даха. До наших дней дошли их названия - Кукча, Сибзар, Бешагач и Шейхантахур. В них отражена вся история Ташкента. Первые два – самые древние, происходят от иранских слов. Кукча –местность, где много полей и лугов, Сибзар – множество садов. Бешагач по-тюркски означает «пять деревьев». Шейхантахур по-арабски - «шейх Ховенди ат-Тахур».
Даха делились на махалля. Это небольшой квартал, основная административная и планировочная единица города. Обычно махалля заселяли люди, занимавшиеся одним ремеслом, или выходцы из одной местности. Так появились махалля Укчи (квартал оружейников), Тукимачи (квартал ткачей), Тадж-куча (квартал, где жили таджики), и так далее. Но часто махалля назывались по названию мечетей или достопримечательных мест на их территории.
Для руководства жизнью махалля ее население выбирало из своей среды самого почтенного человека – аксакала. Имелся также мираб, или арык-аксакал, ведающий распределением воды и чистотой арыков, а также мулла квартальной мечети - имам-хатыб.
Махалля с их выборными администрациями являлись основной единицей городского самоуправления и подчинялись хакиму - правителю своего даха, выбранному из аксакалов. По сути, Ташкент представлял собой купеческую республику, возглавляемую четырьмя выборными представителями городских даха: Шейхантаура, Бешагача, Кукчи и Сибзара. Такая система управления городом получила название чорхаким («четыре хакима»).
После смерти правителя Ташкента Толе-бия между четырьмя хакимами разгорелась борьба за власть. Почти на четверть столетия город стал местом сражений между их сторонниками. Обычно «поле битвы» располагалось в месте, называемом Джангох (территория современного парка имени Абдуллы Кадыри) вблизи базара Чорсу. Сам древний городской рынок, насчитывавший к тому времени уже около восьми веков, жил обычной жизнью даже во время боев. Однако в целом это был один из самых тяжелых периодов в истории Ташкента. Участились нападения кочевников, ухоженные пригородные земли пришли в запустение, болота, заросшие камышом, подошли к самым городским стенам.
В 1784 году в город явился Юнус-Ходжа, сын умершего шейхантаурского хакима и бывший советник Толе-бия. Его сопровождала небольшая дружина, состоящая в основном из казахов и некоторого числа горожан. Юнус-Ходжа заявил права на место своего отца, и старейшины города удовлетворили его требования. Став шейхантаурским хакимом, он быстро заслужил доверие горожан и основал независимое Ташкентское государство под своей единоличной властью.
Началось восстановление городских оборонительных сооружений. Жители каждой из 150 махалля были обязаны своими силами привести в порядок определенный участок городской стены. За правильностью и качеством работ следили специальные люди. После ремонта городская стена стала иметь 7,9 метра в высоту и 1,8 метра ширины (у подошвы). На ней были устроены специальные парапеты, где рядом помещались 3-4 пушки. Была создана постоянная армия, организован отпор нападениям кочевых племен. Все это устраивало ташкентских ремесленников и купцов, стремившихся к мирной жизни. В Ташкент возвращались жители, бежавшие в другие местности.
Ташкентский правитель Юнус-Ходжа был окружен сторонниками из числа кочевников-феодалов. Однако, по крайней мере, в начале своего правления, он действовал и в интересах горожан. Четыре наиболее влиятельных в городе аксакала, по одному от каждого даха, составляли городской совет, с которым считался Юнус-Ходжа. За 15 лет такого правления население города значительно увеличилось и составило около 40 тысяч человек. Расширились и ташкентские владения за счет присоединения степных районов. Ташкент начал чеканить собственную монету и проводить независимую внешнюю политику. В 1797 году посольство Ташкентского государства отправилось в Санкт-Петербург, и было принято российским императором Петром I. В 1794 году ташкентские войска успешно отразили нападение одного из сильнейших владетельных правителей Ферганской долины – Нарбута-бия. Однако полководцы образовавшегося в долине Кокандского ханства не оставляли попыток завладеть Ташкентом. Начался длительный период ташкентско-кокандских войн.
В 1799 году регулярные войска Юнус-Ходжи, ополчение из кочевников и ополчение горожан вновь наголову разбили ферганцев. Соотношение сил в государстве изменилось в пользу кочевой военно-феодальной знати. Влияние городского совета заметно ослабло, а права ремесленников и купцов были сильно ограничены.
В октябре 1800 года правитель Ташкента, несмотря на возражения городских аксакалов, собрал ополчение кочевников (около 7000 человек) и выступил в поход на Коканд. Поход оказался неудачным. На берегу Сырдарьи на войска Юнус-ходжи неожиданно напали кокандцы и разбили большую часть его армии. Преследуя остальных, они приближались уже к Ташкенту, но им преградило путь ташкентское ополчение. Атаковать город кокандцы не решились, но захватили восточные районы Ташкентского государства.
Через год после этого похода Юнус-ходжа умер. После его смерти ташкентцы стали оборонять только собственный город, не оказывая поддержки кочевым племенам. В свою очередь, кочевники не приходили на помощь, когда Ташкент осаждали кокандцы. В результате в 1808 году в результате длительной, кровопролитной войны Ташкентское государство было присоединено к Кокандскому ханству.Опасаясь восстаний, наместники хана немедленно начали возведение крепости – Урды - на левом берегу канала Анхор, за пределами города.
![Варота на урде Варота на урде]()
Въезд в старый Ташкент из нового города, оформленный в районе Урды в конце ХIХ века специальной аркой. Фото 1927 г.
Действительно, ташкентские беки и хакимы часто поднимались на борьбу с Кокандом, но эти выступления жестоко подавлялись ферганскими войсками. Ташкент оставался под властью Кокандского ханства вплоть до 1865 года, до завоевания Россией. На начальном этапе военных действий царское правительство считало захват Ташкента преждевременным. Учитывая торговые связи Ташкента с Россией и недовольство значительной части его населения политической зависимостью от Коканда, в Петербурге рассчитывали, что Ташкент, оказавшийся уже вблизи от русских границ, сам отложится от Коканда. В таком случае могло образоваться независимое от Коканда владение под покровительством России. Именно такие директивы были получены генералом-майором Черняевым (военным губернатором Туркестанской области, образованной в 1865 г. из завоеванных царской Россией земель) от оренбургского генерал-губернатора Крыжановского.
В случае, если бухарский эмир, начавший войну с Кокандским ханством, сделает попытку овладеть Ташкентом, Черняеву разрешалось превентивно занять его русскими войсками. Видимо, эта оговорка и была использована Черняевым, чтобы на свой страх и риск предпринять наступление на Ташкент. Весной 1865 г. войска Черняева подошли к Ташкенту. Предварительно была занята крепость Ниязбек, являющаяся ключом оросительной системы Ташкента, город остался без воды. Несмотря на сопротивление большого отряда кокандских войск под командованием Алимкула, 17 мая 1865 года город был взят после ожесточенного штурма. Правительство щедро наградило Черняева. Царь пожаловал ему шпагу с бриллиантами. Судьба Ташкента, однако, оставалась еще некоторое время неопределенной. В сентябре 1865 г. оренбургский генерал-губернатор Крыжановский объявил город независимым владением, стремясь тем самым освободить его от влияния и Коканда и Бухары.
Ташкент – центр Туркестанского генерал-губернаторства. История развития города в колониальный период
Политическая программа новой военной администрации была изложена в «договоре», составленном по просьбе Черняева на узбекском языке законодателями-улемами. Договор был переписан в 4-х копиях для каждого даха, вывешен на городском базаре и доведен глашатаями до всеобщего сведения. В нем содержался призыв к населению придерживаться мусульманской религии, строго исполнять все предписанные обряды и вести обычный образ жизни: «Пусть они исполняют повсюду молитвы пять раз в день, не пропуская указанного времени, часа или даже минуты», «Пусть дети не пропускают ни одного урока», «Остерегайтесь всякого новшества, которое идет против законов религии», «Пусть жители этой страны займутся своей работой». Этот договор также давал жителям Ташкента определенные гарантии: «Дома, сады, поля, участки, водяные мельницы и другое имущество, которое вам принадлежит, останется в вашей собственности», «Солдаты ничего не возьмут у вас», «Никто из военных не войдет в ваш дом, а если войдет – дайте знать, тотчас он будет наказан» и т.д.
Договор, по сути, излагал те условия, которыми определял Черняев поведение русских властей в отношении ташкентцев и ташкентцев по отношению к русским властям. Он был подписан самим генералом, прибывшими с ним офицерами, представителями города во главе с Ишаном-Ходжой Кази Каляном, а также присутствовавшими предводителями кочевых казахских племен.
![Домик М. Г. Черняева Домик М. Г. Черняева]()
Домик М. Г. Черняева - первое здание нового города. Сооружен 17 июня 1865 г. в скверике, который располагался у современного Центрального выставочного зала. Не сохранился. Фото 1902г.
Этот любопытный документ долгое время оставался своего рода основным законом поведения той и другой сторон. Только мулла Салих бек-Ахун пытался сорвать подписание договора, заявив, что подпись недействительна, так как по обычаю и шариату следует прикладывать личную печать. Его заявление не имело успеха, присутствовавшие согласились, что русский обычай иной – и подпись действительна. Но после этого случая Черняев, приняв к сведению замечание, обзавелся своей печатью.
С целью упрочения контактов с горожанами генерал Черняев посетил все чтимые места религиозного культа, беседовал с людьми, побывал в гостях в доме у Ишана-Ходжи Кази Каляна, познакомился с наиболее отличившимися в боях за Ташкент воинами и в знак уважения к их храбрости выдал некоторым из них официальные охранные грамоты.
Вторым крупным мероприятием после захвата Ташкента стало сооружение новой крепости. Генерал Черняев попросил представителей города указать свободное место, где можно было бы построить укрепление. Ему указали холм Тил-и-Кирилмас, и уже к осени 1865 года здесь возникла пятиугольная крепость с земельными валами.
![Въезд в русскую крепость. Въезд в русскую крепость.]()
Въезд в русскую крепость. Сооружен в 1865-1866 гг. Не сохранился. Фото 1902 г.
Ташкентская крепость стала первым в истории города сооружением, которое возводилось с использованием наемного, а не принудительного труда. Организация найма рабочих на все земляные работы осуществлялась ташкентским купечеством, поставщиком рабочей силы был городской посад. Особенно энергичную деятельность развил ташкентский купец Сеид Азим Мухаммедбаев, торговавший в городе Троицке, откуда его караван пришел в город уже после занятия его войсками под командованием Черняева. Он являлся видным представителем пророссийски настроенной группировки жителей Ташкента и дважды подавал прошение Троицким властям с просьбой принять его в российское подданство. Он довольно хорошо изучил русский язык и стал для русских военных властей незаменимым посредником в контактах с коренным населением, благодаря чему довольно скоро занял заметное положение в местном обществе и при штабе генерала Черняева. Мухаммедбаев умело использовал это для развития коммерции и быстро сколотил большое состояние.
Между тем бухарский эмир, начав войну с Кокандским ханством, со своими войсками захватил Джизак, а затем Ходжент, куда к нему устремились все покинувшие город ташкентцы и другие сторонники эмира или кокандского хана, оставившие Ташкент в памятный день капитуляции. Это обстоятельство чрезвычайно обеспокоило Черняева и он решил выступить из Ташкента, расположившись ближе к Сыр-Дарье. Характерно, что, покидая город, Черняев назначил начальником в Ташкенте на время похода не русского офицера, а ташкентца Ишана-Ходжу, на деле демонстрируя полное доверие к горожанам.
![дороги Ташкента дороги Ташкента]()
Вскоре после возвращения из похода Черняевым было осуществлено еще одно мероприятие, имевшее историческое значение, - отмена рабства. Однако
купцы, улемы и другие зажиточные ташкентцы, имевшие рабов, отнеслись к этому с недовольством, объясняя свое отношение к этой мере также и тем, что даже по законам шариата допускалось покупать или отпускать рабов. Но потом они вынуждены были дать согласие, и с этого момента невольничий рынок в Ташкенте был закрыт, а рабы освобождены. Им были отведены земли для поселения и сельскохозяйственных работ в районе Кара-Камыша
В 1867 году было учреждено Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте, и на левом берегу Анхора была выстроена резиденция генерал-губернатора.
Здесь возник так называемый «новый город», строившийся по образцу крупных европейских городов. Место для него было выбрано на левом берегу канала Анхор, где стояла крепость кокандских правителей (урда), а вокруг зеленели сады и хлопковые поля. Название Урда сохранилось до наших дней. Сегодня так называется участок улицы Навои в районе моста через Анхор. Коренные ташкентцы знают, что в прошлом здесь проходила граница между мусульманским и европейским городом. Выражение «старогородской» в их лексиконе до сих пор обозначает какие-то изначальные, присущие только прежнему Ташкенту понятия
Резиденция туркестанских генерал-губернаторов. Сооружена в 1866 году, реконструирована в 1877, 1884 гг. А. А. Бенуа. Здание не сохранилось
Вот что писал о Ташкенте тех времен бывший премьер-министр российского Временного правительства А. Ф. Керенский, который окончил Ташкентскую мужскую гимназию: «Ташкент стоял на плоской равнине, вдали призрачно белели покрытые снежными шапками вершины Памира. Улицы города являли причудливое сочетание Европы и Азии. Как и Самарканд, Ташкент делился на два непохожих, но тесно связанных между собой города.
![Кауфманская Кауфманская]()
Центральные улицы Нового города – Кауфманская. Фото начала ХХ в.
Новый город, возникший после захвата Ташкента русскими войсками в 1865 году, представлял собой один огромный сад. Он был распланирован с большим размахом, и особую прелесть его широким улицам придавали тополя и акации. В буйной зелени деревьев и кустов прятались большие и маленькие дома. Старый город, построенный много веков назад, где проживало около ста тысяч мусульман, состоял сплошь из лабиринта узеньких улочек и проулков.Высокие глинобитные стены домов без единого окна скрывали от любопытного взора все, что происходило внутри. Сердцем старого города, средоточием его торговой и общественной жизни, был огромный крытый базар».Ташкент был типичным восточным городом. В нем властвовали два цвета: желтый - цвет глины и голубой – цвет бездонного азиатского неба, который старались перелить средневековые мастера на купола своих медресе и мечетей. Конечно, взгляд прохожего радовали и цветные мозаики каллиграфических надписей на их фасадах, и серебристо-зеленые кроны тополей, и разнообразие красок восточного базара. Но все-таки старый Ташкент – это, прежде всего, желтое царство глины, обыкновенной лессовой глины, основы основ всех древнейших цивилизаций на Земле. Плоские кровли, узкие улочки, глухие стены желтовато-серых домов, кружа и пересекаясь, образовывали небольшие кварталы – махалля. Для молитвы мужчины махалля собирались в квартальной мечети, а для обсуждения своих проблем - в чайхане. За пиалой горячего зеленого чая жители обменивались новостями, обсуждали проблемы мироздания, а заодно и решали насущные вопросы жизни квартала.В то же время внутренний уклад каждой семьи был полностью скрыт от посторонних глаз. Женщины выходили на улицу очень редко и только полностью покрытые специальным покрывалом – паранджой.
Жилые дома строились так, что на улицу выходила лишь глухая стена. Даже вход в дом был сконструирован так, чтобы взгляд случайного прохожего не мог проникнуть внутрь. Внутренняя территория была разделена на мужскую и женскую половины. Для гостей выделялась лучшая в доме комната – мехмонхона. Только туда мог попасть посетитель, все остальные помещения оставались недоступными для посторонних.
Центром городской общественной жизни, как уже отмечалось, был старинный рынок Чор-су, еще в IX веке возникший у подножия древнего холма – прародителя Ташкента, с которого упорные жители страны Чач начали заново отстраивать свою столицу после арабского нашествия.
Здесь объявлялись народу новости, здесь же их тут же комментировали острословы. Выступали певцы и проповедники, канатоходцы удивляли народ своими рискованными номерами. Дервиши в остроконечных лисьих шапках то кружились на месте под звуки бубна, исполняя свой суфийский обряд, то часами сидели неподвижно, уносясь куда-то в свои загадочные миры.
Поражали изобилием длинные ряды со сладостями и фруктами и, конечно, лавки ремесленников, которыми с незапамятных времен славился Ташкент. Это был настоящий город мастеров, в нем жили искусные ювелиры, ткачи, медники, оружейники, гончары. Особенно ценилась шашская керамика - кувшины, чаши, блюда, и специальным образом выделанная кожа - зеленый шагрень.
«Шумная, пестрая толпа, изобилие экзотических фруктов, пятна непривычно ярких цветастых нарядов, еще более яркие тона всякого азиатского товара, величавые белобородые всадники на конях , ослах и верблюдах,
пробирающиеся в разных направлениях по многоголосным переходам и площадям, - и все это, как в расплавленном масле, плавает в сверкающем южном солнце», - так описывал знаменитый ташкентский базар в начале ХХ века очевидец.
И действительно, в то время для прохожих не было никакой защиты от солнца, кроме базарных навесов да листвы старых деревьев вокруг святых мест. Зато ничто не мешало любоваться горизонтом, на котором отчетливо виднелись отроги Тянь-Шаньских гор: дома горожан были в основном одноэтажными, из необожженного кирпича. Желтоватая лессовая почва служила прекрасным материалом для изготовления таких кирпичей, быстро просыхавших в жарком воздухе. Летом в доме из такого материала было прохладно, зимой – тепло, а главное – построить его можно было буквально в течение нескольких дней. Поэтому жители быстро восстанавливали свой город после частых землетрясений и вражеских набегов, каждый раз заново создавая своими руками облик Ташкента.
Его история – это плоские крыши домов, поросшие цветущими маками, гнезда аистов на невысоких минаретах, негромкое журчание воды, которую можно было пить, зачерпнув из арыка. Это мавзолеи и мечети, скромные по сравнению с парадным великолепием Самарканда и Бухары, но оттого не менее почитаемые. Это золотые руки, упорство и предприимчивость жителей, которые не дали исчезнуть древнему городу. И даже пыль ташкентских улиц вдохновение средневекового поэта Зайнуддина Васифи превратило в райский аромат:
«Везде каналы. Столько, сколько нужно
Пролилось влаги из небес на землю.
А если ветер пыль поднимет в небо
Ту пыль сравню я с ароматом чудным,
Которым гурии в раю благоухают.
Той пылью лечат ангелы глаза
За короткое время рядом со старым Ташкентом вырос новый европейский город. Военными инженерами была разработана радиально-кольцевая система планировки нового Ташкента с центром в Константиновском сквере (ныне - сквер Амира Темура). Появились здания банков, магазинов, гостиниц, театров, учебных заведений.
![Вход в городской сад с ул. Московской. Вход в городской сад с ул. Московской.]()
Вход в городской сад с ул. Московской. Сооружен в 1890 г. А. Бенуа.
Ныне это сад у городского хокимията. Фото начала ХХ в.
В 1882 году был разбит первый общественный парк (ныне – территория при городском хокимияте), а в 1883 году - нынешний сквер Амира Темура.
Одновременно с закладкой большого парка началось строительство здания Военного собрания. В Военном собрании был вестибюль с гардеробами, нарядный зал для театральных постановок, просторное фойе с выходом на широкую террасу, открытую в парк. В 1955 году здание было реконструировано с учетом сейсмичности, расширено, надстроен второй этаж, построены новые кино- и спортивные залы, а с улицы академика Сулеймановой добавлен отдельный вход.
![Военное собрание. Военное собрание.]()
Военное собрание. Сооружено в 1885 г. Старейший зрительный зал города. Ныне - Центральный Дом офицеров. Фото начала ХХ в.
![Отделение Государственного банка Отделение Государственного банка]()
Отделение Государственного банка по ул. Николаевской у нынешнего сквера Амира Тимура. Сооружено в 1895 г. В. Гейнцельманом. Фото начала ХХ
Одно из наиболее выразительных зданий, образовавших архитектурный ансамбль вокруг Константиновского сквера (ныне – сквер Амира Темура), и сегодня используется по прямому назначению. В нем находится Мирзо-Улугбекское отделение Промышленно-строительного банка Республики Узбекистан. В 1901 году по проекту архитекторов В. Гейнцельмана и Л. Киселева была сооружена Казенная палата и казначейство. В настоящее время в этом архитектурном памятнике начала ХХ века располагается республиканский фонд «Соглом авлод учун».
![Казенная палата и казначейство Казенная палата и казначейство]()
Казенная палата и казначейство. Фото начала ХХ века.
памятнике начала ХХ века располагается республиканский фонд «Соглом авлод учун».
В конце Х1Х-начале ХХ века в Ташкенте началось строительство учебных заведений. Два длинных бурых трехэтажных корпуса, окаймляющих сквер с запада - первые в Ташкенте учебные заведения европейского типа: мужская и женская классические гимназии. На базе гимназий потом, уже в ХХ веке, был создан Ташкентский университет. Здесь учился и в 1900 году окончил гимназию в числе лучших учеников известный политический деятель ХХ века - Александр Керенский (1881-1970), глава Временного правительства России в 1917 году.
![Ташкентская мужская и женская классическая гимназия. Ташкентская мужская и женская классическая гимназия.]()
Ташкентская мужская и женская классическая гимназия. Сооружены в 1882- 1883 г. Е. Дубровиным и Янчевским. Ныне - Ташкентский юридический институт. Фото начала ХХ в.
Со зданиями гимназий связано и другое интересное событие. В этом месте состоялась первая в мире телевизионная передача. Слушатель Ташкентского университета Борис Грабовский изобрел и в 1923 году запатентовал особый прибор, названный телефотом. В нем впервые был применен принцип передачи изображения по радио, используемый в наших телевизорах. Действующую модель прибора-передатчика он установил на перекрестке у гимназий, а прибор-приемник (то есть телевизор) отнес метров на пятьсот по улице на запад. В присутствии многочисленных зрителей экспериментаторы летом 1928 года получили на экране движущееся изображение трамвая.
В 1879 году в Ташкенте была открыта Туркестанская учительская семинария, готовившая учителей для так называемых «русско-туземных» начальных школ. В этих школах на русском языке обучали детей местных национальностей общеобразовательным дисциплинам, готовили переводчиков, приказчиков, счетных работников, в основном для коммерческой деятельности.
![Туркестанская учительская семинария Туркестанская учительская семинария]()
Туркестанская учительская семинария - старейшее учебное заведение в городе. Постройка 1881 г. по проекту А. Бенуа. Ныне от постройки сохранилась лишь часть домовой церкви А. Невского с фасадом на ул. Матбуотчилар. Фото начала ХХ в.
С 1881 года учительская семинария разместилась в большом жилом доме полковника Тартаковского. Этот дом был перестроен для нужд учебного заведения при участии архитектора А. Бенуа. Он же разработал проект домовой церкви при семинарии, которая была освящена 2 ноября 1898 года, получив имя святого Александра Невского. До наших дней сохранилось только это здание домовой церкви, но в сильно перестроенном виде и без куполов
![Реальное училище Реальное училище]()
Реальное училище на Махрамском проспекте. Сооружено в 1898 г. В. Гейнцельманом и Максимовым. Ныне – Агентство внешнеэкономических связей. Фото начала ХХ в.
Одним из старейших из них является Ташкентское реальное училище.
Значительный денежный вклад на его сооружение внес бухарский эмир Абдал-ал-ахад, который и был одним из попечителей этого учебного заведения. Вообще до 1917 года все учебные заведения Ташкента были средними или начальными. Несмотря на неоднократные попытки городского головы Н. Г. Малицкого открыть Туркестанский университет еще в начале ХХ века, сделать это, прежде всего, по экономическим причинам не удалось.
В 1905 году на берегу Салара был построен Кадетский корпус. В то время он находился за чертой города. При возведении его главного здания впервые были учтены местные сейсмические условия: незадолго до этого в различных городах Туркестанского края прошла целая серия сильных подземных толчков. В сильно перестроенном виде до сегодняшнего дня сохранилась также домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы ташкентского кадетского корпуса. Внутри церкви находился исторический походный иконостас императора Петра I, пожертвованный корпусу великим князем Николаем Константиновичем. Местонахождение этой ценной реликвии в настоящее время неизвестно.
![Кадетский корпус Кадетский корпус]()
Кадетский корпус на берегу Салара. Архитектор В. Гейнцельман
Сооружен в 1905 г. Веселовым. Ныне здесь размещается 1-й Ташкентский государственный медицинский институт. Фото начала ХХ в.
![Мариинское женское училище Мариинское женское училище]()
Мариинское женское училище. Сооружено в 1910 г. Г. Сваричевским. Ныне - посольство Франции в Узбекистане. Фото 1910 г.
1910 году в Ташкенте было построено Мариинское женское училище, а в 1913 году Вторая ташкентская женская гимназия, в здании которой ныне располагается Вестминстерский международный университет.
Подлинным украшением Ташкента является здание Дворца Великого князя Николая Константиновича Романова, сооруженное в 1890 году архитектором А. Бенуа под руководством В. Гейнцельмана. Николай Константинович Романов (1850-1918 гг.) – родной внук российского императора Николая I. В начале 80-х годов ХIХ века тогда еще молодой гвардейский офицер Николай Константинович в результате придворных
![Вторая ташкентская женская гимназия Вторая ташкентская женская гимназия]()
Вторая ташкентская женская гимназия. Сооружена в 1913 г. Г. Сваричевским. Ныне - Международный Вестминстерский университет. Фото 1934 г.
повредившимся в уме и сослан навечно на окраину империи - в Туркестанский край. Никогда никаких официальных должностей он в Ташкенте не занимал, называл себя князем Искандер и прославился как грамотный инженер-ирригатор, путешественник и коммерсант. Он очень много сделал и для развития культуры в крае В своем дворце, окруженном дубовым парком, князь разместил собственную и очень ценную коллекцию произведений искусства, которая в дальнейшем стала основой собрания Государственного музея искусств Узбекистана. Николай Константинович также собрал много книг по истории Средней Азии и позднее передал их в Туркестанскую публичную библиотеку. Первый кинематограф и первый театр и в Ташкенте также были построены им. Великий князь прожил в Ташкенте почти 40 лет. В 1918 году он умер от воспаления легких. В начале ХХ века в Ташкенте началось строительство культурных учреждений – театров, кинотеатров, библиотек и т.д. Первый кинотеатр в городе «Зимняя Хива» был сооружен в 1910 году архитектором Г.Сваричевским, в настоящее время на этом месте находятся фонтаны перед входом в метро на станции «Мустакиллик». В 1913 г. Дьяковым, А. Гарнеем и Г. Поповым был построен театр «Колизей». Сейчас в совершенно перестроенном здании располагается биржа на улице Бухоро
![Дворец ссыльного великого князя Николая Константиновича Романова Дворец ссыльного великого князя Николая Константиновича Романова]()
Дворец ссыльного великого князя Николая Константиновича Романова (ныне - Дом приемов МИД). Сооружен в 1890 г. В. Гейнцельманом. Фото 1909 г.
Стиль построек нового города обычно называют туркестанским колониальным, либо туркестанским модерном. Его особенностью является то, что здания строились из особого местного кирпича и никогда не оштукатуривались, сохраняя характерный буро-желтый цвет. Постройки украшались фигурной выкладкой, металлическими балюстрадами, решетками и перилами. «Одной из характеристических особенностей здешних построек служит также то, что дома из жженого кирпича никогда не оштукатуриваются. Туркестанский железняк имеет не буро-красный, а буро-желтый цвет. Неоштукатуренное здание не имеет, таким образом, неприятного красного цвет, и естественный цвет туркестанского железняка вполне заменяет для здания окраску. Так построены все лучшие ташкентские здания». («Русский Туркестан», ежемесячное приложение к журналу «Нива», № 5, 1894.)
Свое индивидуальное лицо город получил благодаря самоотверженному труду нескольких выдающихся инженеров и архитекторов. Это Вильгельм
![Зимняя Хива Зимняя Хива]()
Кинотеатр «Зимняя Хива». Фото начала ХХ в.
Гейнцельман (умер в 1922 году) - чиновник для особых поручений по строительной части туркестанского генерал-губернатора, возглавлявший в течение 22 лет все строительство в Туркестанском крае; Георгий Сваричевский (1871-1936 гг.), сменивший В. Гейнцельмана на этом посту; Алексей Бенуа (1838-1902 гг.) – «свободный художник», происходивший из знаменитой российской артистической семьи.
![Здание «Циндель-дома» Здание «Циндель-дома»]()
Здание «Циндель-дома» (ныне - типография №1 Госкомиздата), построенное на северной стороне площади Эски-Джува в 1912 г. для офиса фирмы «Э. Циндель и К». Фото 1915 г.
Начиная с 1870 года, в городе стали регулярно проводиться промышленные и сельскохозяйственные выставки. История организации специальных промышленных и сельскохозяйственных выставок в Ташкенте начинается с лета 1870 года. Первая Туркестанская выставка была скромной по масштабам. В
ней принимали участие лишь местные ремесленники, мастера народных промыслов и первые промышленные заведения. Но вскоре выставки стали регулярными, и к концу XIX века на Туркестанских выставках можно было увидеть продукцию многих крупных предприятий со всех концов Российской империи, а также экспонаты из Бухарского эмирата и Хивинского ханства.
Выставки в Ташкенте проводились по частной инициативе – отдельными предпринимателями и различными обществами, среди которых лидировало Туркестанское общество сельского хозяйства. В 1909 году исполнялось двадцать пять лет со дня основания этого общества. Было решено отметить эту дату большой сельскохозяйственной, научной и промышленной выставкой в Ташкенте.
Под юбилейную выставку отвели весь нынешний сквер Амира Темура, а также весь Городской сад. Десятки тысяч экспонатов были распределены по двадцати одному тематическому разделу. Для их размещения бригада строителей под руководством А.Н. Левковича возвела более ста разнообразных выставочных павильонов.
Выставка работала с 13 сентября по 15 октября 1909 года и пользовалась огромным успехом. Уже в первые две недели число ее посетителей достигло ста тысяч человек. Был выпущен подробный путеводитель, издавалась специальная газета «Вестник выставки» (всего вышло восемнадцать номеров). Победителям выставки было выдано около двухсот золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также почетные халаты.
Один из павильонов этой выставки, построенный в мавританском стиле для старейшей в Туркестане фирмы «И. А. Первушин и сыновья» сохранялся в городском сквере до середины 90-х годов XX века в качестве цветочного
магазина.
В 1899 году к Ташкенту с юга, от Красноводска через Новую Бухару (Каган), Самарканд и Джизак подошла железная дорога.
![Железнодорожный вокзал Железнодорожный вокзал]()
Железнодорожный вокзал (ныне - Северный). Построен в 1899 г. Г. Сваричевским. Ныне здание полностью перестроено. Фото начала ХХ в.
В 1904 году была построена ветка с севера от Оренбурга через станцию Аральское море и вдоль русла Сырдарьи. Открытие железно-дорожного сообщения значительно ускорило развитие всего края и Ташкента в частности. Вокруг вокзала и железнодорожной станции возникла обширная промышленная зона и крупный жилой массив (ныне - Мирабадский район города и Южная промышленная зона).
С 1887 года началось освещение городских улиц, а в 1892 году заработали первые телефоны. 30 марта 1901 года по Шейхантаурской улице, соединявшей новый и старый город, было открыто движение конного трамвая (конки). В 1913 году трамвай перешел на электрическую тягу.
![Центральные улицы Нового города Центральные улицы Нового города]()
Центральные улицы Нового города - Махрамская. Фото начала ХХ в.
Наряду с достижениями технического прогресса, во внешнем облике Ташкента, его архитектуре нашло отражение и многообразие религиозной жизни его населения. Как уже отмечалось, в первые века существования города население Ташкента придерживалось среднеазиатской разновидности зороастризма. Это первая в мире религия-откровение, возникшая середине I тысячелетия до нашей эры в Средней Азии. По мнению многих исследователей, легендарный пророк, автор зороастрийских гимнов Заратуштра (по-гречески - Зороастр), являлся уроженцем либо Хорезма, либо Бактрии.
Зороастрийские религиозные представления включают веру в извечную борьбу двух начал в мире - Добра и Зла, персонифицированных в виде целого ряда различных божеств, из которых в Ташкенте почитались Сиявуш, великая мать Анахита, герои древних эпосов Афрасиаб, Кейкаус и другие. Зороастрийцы чтили четыре священные стихии: огонь, воду, воздух и землю. Своих умерших они не хоронили в земле и не сжигали, а выставляли в специальных Башнях молчания на съедение хищным птицам. Через определенное время высушенные на солнце кости умерших собирали в украшенные узорами глиняные сосуды - оссуарии и помещали в особые хранилища – наусы.
Завоевателями-арабами в VIII веке в Ташкент был принесен ислам - самая молодая из существующих мировых религий-откровений. Учение пророка Мухаммада, который в 570-632 годах н. э. жил в Аравии, включает в себя следование пяти основным правилам: признание единственности бога-создателя мира и его последнего пророка; пятикратная краткая молитва в дневное время суток через равные промежутки времени; добровольное пожертвование установленной части своего дохода на нужды общества (закят); ежегодный пост в течение священного месяца рамазан (ураза); обязанность хоть раз в жизни посетить места, где зародился ислам (совершить хадж). Учение ислама изложено в священной книге мусульман – Коране, представляющем собой кодифицированный после смерти пророка Мухаммада сборник его проповедей, и в сунне - своде рассказов (хадисов) о жизни пророка, собранных его последователями и считающихся достоверными. Мусульмане Узбекистана исповедуют ислам суннитского направления.
В Средней Азии в средневековье распространился суфизм (от арабского суф – грубая шерстяная ткань, отсюда - власяница). Существует несколько точек зрения на происхождение и суть этого философского учения. Считается, что суфизм возник в VIII – Х веках и основан на возможности познания человеком высшей истины или божьей благодати. Путь к этому - получение сокровенных знаний от посвященного учителя-суфия и самосовершенствование с применением элементов медитации. В суфизме нашли место пережитки многих древних доисламских культов и верований, почитание святых и т. д.
Считается, что христианство проникло в Среднюю Азию еще в новозаветные времена - с апостолами Фомой и Андреем Первозванным. Уже во II-III веках нашей эры здесь существовали довольно многочисленные общины несториан - последователей константинопольского патриарха Нестория. Эти общины и епархии сохранились вплоть до времен монгольских завоеваний Чингиз-хана, породив легенды о существовании в Центральной Азии некоего христианского царства первосвященника Иоанна. Однако христианство в форме русского православия обосновалось в Ташкенте только после завоевания города Российской империей. Ташкентская и Среднеазиатская епархия Русской православной церкви была образована 1 января 1872 года в городе Верном (сейчас - Алматы, Республика Казахстан). Миссионерская деятельность по обращению местного населения в православие в Туркестанском краебыла запрещена властями. Поэтому христианство оставалось исключительно уделом верующих, приезжавших сюда из других местностей Российской империи.
В конце ХIХ - начале ХХ века в Ташкенте были открыты храмы и других христианских конфессий - протестантской (1899 г.) и католической (1902 г.). Ныне действующая евангелическо-лютеранская церковь, принадлежащая немецкому евангелическо - лютеранскому обществу, была построена архитектором А.Бенуа в конце Х1Х века в традициях западноевропейской церковной архитектуры и резко отличается по стилю от других ташкентских сооружений того времени.
Строительство римско-католического костела в Ташкенте началось в 1912 году, однако было приостановлено из-за событий 1917 года. Реставрационные работы (оставшихся руин) начались с 1993 года, в основном за счет средств, выделенных Святым Престолом и католическими общинами Германии, США, Италии и Польши.
Иудаизм в Ташкенте и в средневековье имел своих последователей среди так называемых среднеазиатских (или бухарских) евреев, особой ветви еврейского народа, которая, по преданиям, издавна обитала в Средней Азии. Впрочем, община среднеазиатских евреев в Ташкенте была немногочисленна. Их древняя синагога находилась в старом городе на Сагбане. В конце ХIХ века в новом городе была построена синагога для европейских евреев ашкеназим.
Следы буддизма, распространенного в южных районах Узбекистана в первые века нашей эры (до VIII века), в Ташкенте не обнаружены. Отдельные находки буддийских культовых предметов начала ХVIII века, несомненно, принадлежат джунгарским (калмыкским) завоевателям. Они с 1723 года в течение нескольких десятилетий владели городом и окрестными территориями и предпринимали безуспешные попытки обратить местное население в ламаизм – одну из разновидностей буддизма.
Индусы в Ташкенте всегда присутствовали в средневековые времена, но их немногочисленная диаспора жила очень обособленно в особых индийских караван-сараях, располагавшихся вблизи старогородского рынка. Открытое совершение обрядов индуизма на территориях Бухарского и Кокандского ханств, к которым в разные эпохи принадлежал Ташкент, было запрещено мусульманским духовенством.
Годы независимости стали периодом возрождения религиозных ценностей. В настоящее время в республике функционируют 17 религиозных конфессий, действуют свыше 170 религиозных организаций, которые посещают представители более 130 наций и народностей, проживающих в Узбекистане. Отреставрировано и построено свыше 1,7 тысяч мечетей, христианских храмов, синагог и других религиозных центров, функционируют 10 религиозных образовательных учреждений, большими тиражами издается религиозная литература. В Ташкенте открыт Исламский Университет. Возрождены национальные праздники, такие как Рамазан хаит, Курбан хаит и древний праздник – Навруз. В годы независимости десятки тысяч жителей Узбекистана впервые беспрепятственно, при содействии правительства смогли совершить ритуалы хаджа и умра, посетив Мекку и Медину. Кроме того, ежегодно многие представители немусульманских общин, в том числе и ташкентских, совершают паломничество к святыням своих религий в Израиле, Греции и России. Как самый крупный промышленный город Туркестана, Ташкент оказался в центре событий 1917 года. После большевистского переворота он в 1918 году был провозглашен столицей Туркестанской автономной советской социалистической республики в составе РСФСР. В 1924 году проводилось так называемое национальное размежевание Средней Азии. Столицей вновь образованной Узбекской республики был объявлен Самарканд. Однако экономическая и политическая реальность вынудила уже в 1931 году возвратить Ташкенту статус столицы. Началась активная реконструкция города. К 1938 году был составлен первый генеральный план реконструкции Ташкента на несколько десятилетий вперед.
К сожалению, в 30-е годы ХХ века были снесены и безвозвратно утрачены многие ценные памятники архитектуры. Примером может служить замечательный ансамбль Шейхантаур, где в XIX веке было 17 памятников древней архитектуры, а до настоящего времени сохранились только три. До нас дошли только рассказы об этом прекрасном уголке старого Ташкента и старинные фотографии.
С началом второй мировой войны в Ташкент были перебазированы многие промышленные предприятия из оккупированных гитлеровскими войсками областей страны. Ташкент стал второй родиной для сотен тысяч беженцев, спасавшихся от ужасов войны. Жители Узбекистана помогали вновь прибывшим чем могли, часто делились с ними последней лепешкой. Здесь нашли прибежище многие деятели культуры и искусства из захваченных фашистами районов. В 40-е годы XX века в Ташкенте жили и работали Анна Ахматова, Алексей Толстой, Якуб Колас, сюда были эвакуированы киностудия «Мосфильм», Ленинградская консерватория.
В послевоенные годы большое число эвакуированных из центра промышленных предприятий стали базой для развития новых отраслей промышленности. Продолжилась реконструкция города. Было воздвигнуто несколько монументальных зданий, ставших на многие годы символами Ташкента. В их числе - здание театра оперы и балета им. А. Навои, являющееся подлинным украшением столицы, а также ташкентские куранты,задуманные как памятник Победе в войне с фашистской Германией. Город быстро рос и строился.
В 1966 году Ташкент оказался в эпицентре сильного землетрясения. Оно разрушило более тридцати тысяч зданий. Были и человеческие жертвы. Для восстановления города были затрачены огромные усилия и средства. В короткий срок Ташкент преобразился, превратившись в самый красивый и крупный город Средней Азии. В нем был построен метрополитен, а число жителей достигло двухмиллионного рубежа.
Однако в ходе грандиозного строительства была уничтожена традиционная историческая застройка, ряд архитектурных ансамблей и памятников прошлого. Исчезли без следа остатки средневековой городской стены. Лишь названия двенадцати ташкентских ворот (дарбаза) сохранились в памяти людей: Лабзак, Тахтапуль, Кара-Сарай, Сагбан, Чагатай, Кукча, Самаркандские, Камалан, Бешагач, Коймас, Кокандские и Кашгарские. Ташкент стал современным мегаполисом, в котором трудно найти черты восточного старинного города. Очарование старого Ташкента можно почувствовать лишь в районе вокруг Хаст-Имама, на улице Самарканд Дарбаза и на Чигатае (улица Фараби). Здесь кое-где еще сохранилась прежняя традиционная застройка. А 31 августа 1991 года в Ташкенте была провозглашена государственная независимость Узбекистана. Началась новая страница истории этой древней земли.
В Постановлении Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова «О подготовке и проведении 2200-летнего юбилея города Ташкента» подчеркивается: «В истории национальной государственности и общественно-политической жизни страны огромны роль и значение столицы нашей Родины – города Ташкента, внесшего большой вклад в развитие мировой цивилизации, по праву называемого «Воротами Востока», который является гордостью нашего народа».
Отсюда.
 Ташкент – город на границе земледельческих оазисов Средней Азии и бескрайних евразийских степей существует более двух веков. В глубокой древности он не был особенно крупным и по значению в истории значительно уступал своим более южным соседям – Самарканду и Бухаре. Но ученые сегодня уверенно идентифицируют на территории современной столицы Узбекистана несколько значительных археологических объектов, бывших предками Ташкента. Да и сохранившиеся памятники древней архитектуры имеют достаточно почтенный возраст. Так, знаменитая подземная келья при мавзолее Зайн-ад-Дина бобо построена в ХП веке. Но основная масса древних памятников Ташкента, которые сегодня можно увидеть, относится к ХVI веку, когда Ташкент стал центром одного из уделов государства Шейбанидов и управлялся авторитетной ветвью этой династии.
Ташкент – город на границе земледельческих оазисов Средней Азии и бескрайних евразийских степей существует более двух веков. В глубокой древности он не был особенно крупным и по значению в истории значительно уступал своим более южным соседям – Самарканду и Бухаре. Но ученые сегодня уверенно идентифицируют на территории современной столицы Узбекистана несколько значительных археологических объектов, бывших предками Ташкента. Да и сохранившиеся памятники древней архитектуры имеют достаточно почтенный возраст. Так, знаменитая подземная келья при мавзолее Зайн-ад-Дина бобо построена в ХП веке. Но основная масса древних памятников Ташкента, которые сегодня можно увидеть, относится к ХVI веку, когда Ташкент стал центром одного из уделов государства Шейбанидов и управлялся авторитетной ветвью этой династии.

 Шаш-тепе, II-I вв. до н.э. – VIII в н.э.
Шаш-тепе, II-I вв. до н.э. – VIII в н.э. Минг-урюк-тепе, III-VIII вв
Минг-урюк-тепе, III-VIII вв Зороастрийский амулет, изображающий борьбу добрых и злых сил, II тыс. лет до н.э.
Зороастрийский амулет, изображающий борьбу добрых и злых сил, II тыс. лет до н.э.  Зороастрийский погребение в оссуарии .
Зороастрийский погребение в оссуарии .






 Ташкент переходил от арабских военачальников к наместникам иранской династии Саманидов, от Саманидов – к тюркам-караханидам, от тех – к семиреченским кочевникам кара-китаям, а затем – к хорезмшаху Ала ад-Дину Мухаммаду. В апреле 1220 года монголы во главе со старшим сыном Чингиз-хана Джучи захватили и разграбили город, который вошел в состав улуса Чагатая , а с 1346 года, после распада
Ташкент переходил от арабских военачальников к наместникам иранской династии Саманидов, от Саманидов – к тюркам-караханидам, от тех – к семиреченским кочевникам кара-китаям, а затем – к хорезмшаху Ала ад-Дину Мухаммаду. В апреле 1220 года монголы во главе со старшим сыном Чингиз-хана Джучи захватили и разграбили город, который вошел в состав улуса Чагатая , а с 1346 года, после распада 















 Библиотека муфтията
Библиотека муфтията























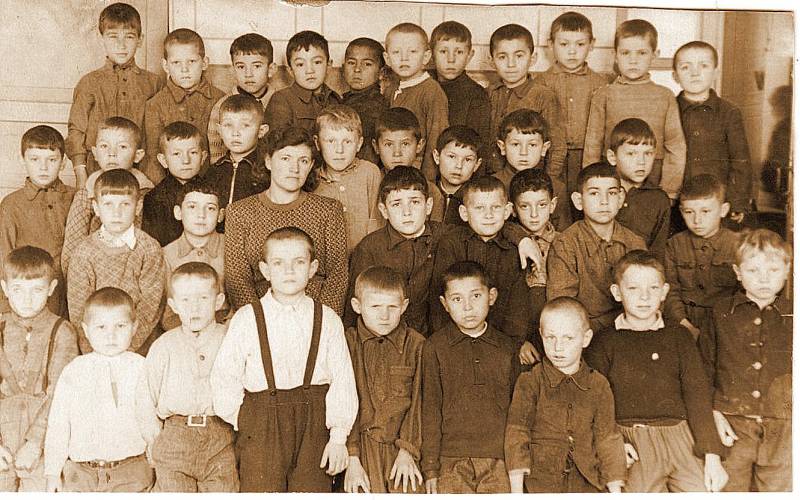


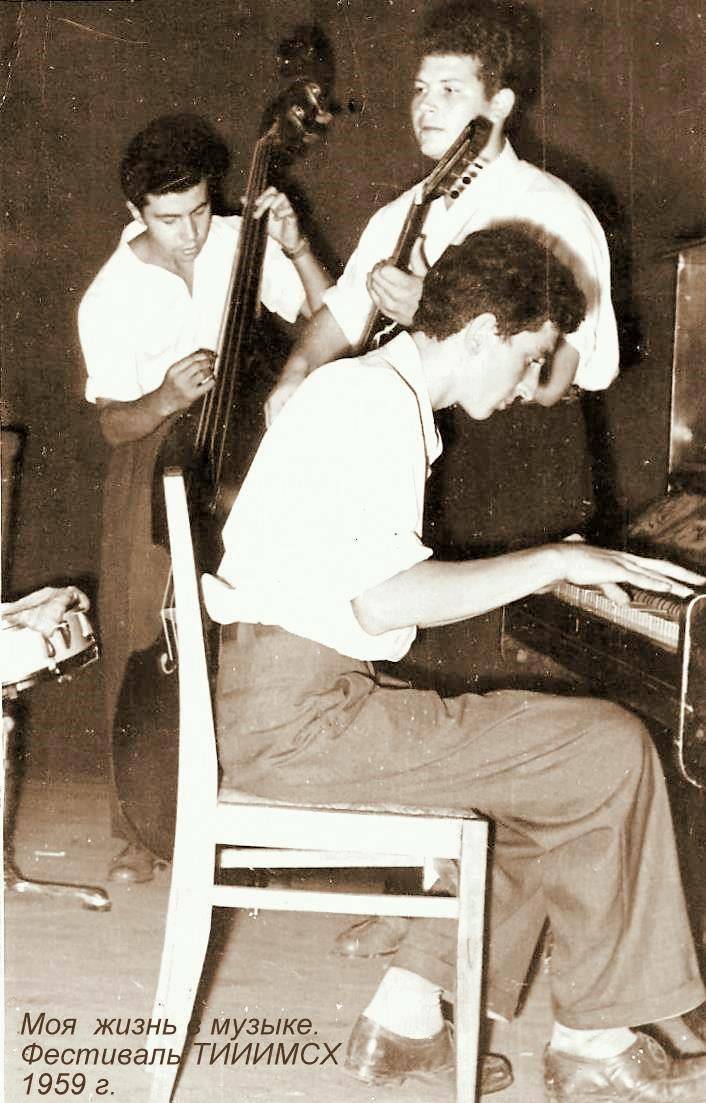

 Рахмат Файзи (1918-1988) - заслуженный деятель искусства Узбекистана, народный писатель Узбекистана, сценарист. Награждён почётным званием заслуженного деятели культуры Народной Республики Польша. Родился в семье ремесленника в районе Бешагач города Ташкент. Окончив среднюю школу, учился в техникуме электромеханики. Позже работал в республиканских газетах и изданиях.
Рахмат Файзи (1918-1988) - заслуженный деятель искусства Узбекистана, народный писатель Узбекистана, сценарист. Награждён почётным званием заслуженного деятели культуры Народной Республики Польша. Родился в семье ремесленника в районе Бешагач города Ташкент. Окончив среднюю школу, учился в техникуме электромеханики. Позже работал в республиканских газетах и изданиях. Рахмат Файзи (Рахмат Файзиевич Файзиев) родился в 1918 году в Ташкенте. После окончания школы поступил в ФЗУ при Ташкентской железной дороге. Учился в электромеханическом техникуме. Работал в редакциях газет «Ленин учкуни» (1937), «Еш ленинчи» (1938), «Фрунзевец» (1943), «Кызыл Узбекистони» («Совет Узбекистони», 1944-1951), заведовал отделом в журнале «Шарк юлдузи» (1951-1954).
Рахмат Файзи (Рахмат Файзиевич Файзиев) родился в 1918 году в Ташкенте. После окончания школы поступил в ФЗУ при Ташкентской железной дороге. Учился в электромеханическом техникуме. Работал в редакциях газет «Ленин учкуни» (1937), «Еш ленинчи» (1938), «Фрунзевец» (1943), «Кызыл Узбекистони» («Совет Узбекистони», 1944-1951), заведовал отделом в журнале «Шарк юлдузи» (1951-1954).

 Олег Анофриев популярнейший киноактер, певун, обаятельный человек. Его облик - одно из олицетворений 60-х, а голос - 70-х годов. Те, кто вырос на поющих его голосом "Бременских музыкантах", сегодня напевает эти песенки своим внукам. Наличие в его творческом багаже стихов о Ташкенте делает честь городу и придает дополнительную стереофонию нашей антологии.
Олег Анофриев популярнейший киноактер, певун, обаятельный человек. Его облик - одно из олицетворений 60-х, а голос - 70-х годов. Те, кто вырос на поющих его голосом "Бременских музыкантах", сегодня напевает эти песенки своим внукам. Наличие в его творческом багаже стихов о Ташкенте делает честь городу и придает дополнительную стереофонию нашей антологии.



























